Перовская
Мармотка
- Просмотров: 1231
Мармотка — Перовская

В тысяча девятьсот двадцать шестом году в годы нэпа, возвращаясь с Телецкого озера, я на несколько дней задержалась в небольшой алтайской деревне Важаихе.
Мне не повезло. Над Важаихой зарядили дожди. Грязь на улицах раскисла на полметра. Она грузла на сапогах, громко чавкала и глотала прямо с ног калоши.
Бородатые важаихинцы, словно озорные мальчишки, рассаживались вдоль улиц, по обочинам, на бревнах изгородей. Случалось, вязли они и в середине улицы, и на перекрестках.
Во всех этих случаях они принимались «реветь» своим отпрыскам и хозяйкам.
Самостоятельные кержацкие сыны не спеша заводили в оглобли коней и доставляли «утопших» на твердую землю.
Раз я тоже утопила в грязи обе свои калоши.
Время было к вечеру. «Реветь» на всю улицу своего квартирохозяина я не решалась. А надеяться на случайных проезжих не приходилось. Хитрые важаихинцы ездили не по улицам, а все больше кругом деревни.
— К забору! — кричали мне женщины с твердой земли. — К забору ступай. Э–вон забор–та!
К какому забору? В середине площади одиноко стоял неогороженный деревянный двухэтажный дом, чайная или столовая, с темно–зеленой вывеской «Аппетит». Но сколько я ни оглядывалась, нигде не было и признака забора.
А женщины у колодца продолжали кричать:
— Говорят тебе, выбирайся к забору, не то утонешь в грязи!
При этом они упрямо указывали пальцами на «Аппетит».
Я пожала плечами и рванулась из грязи к этому самому ихнему «забору». Взошла на крыльцо и потянула к себе ручку двери.
В обоих этажах было по крохотному «залу». Они соединялись деревянной лесенкой. Под лесенкой помещалась кухня. Возле кухонной двери находился буфетный прилавок.
— Вы что, обедать желаете? — спросил басом буфетчик, похожий на тумбу. — Забор!.. — прогудел он куда–то вверх, — Забор Иваныч, дай–ка им, что ли, рогожу ботинки обчистить.
Опять забор! Да что же это такое? По ступенькам между тем стало спускаться что–то грузное, коротконогое, обросшее густым и лоснящимся мехом. Сверху, со спины, оно походило на огромную мягкую черепаху, с полметра в длину и почти столько же в ширину. Я метнулась к двери.
— О–о–о, не бойтесь, пошалюйства! Он Вас не будет укусить, — с нерусскими ударениями произнес наверху старческий голос. — Это ошень послюшны, ошень короши Мармотка — сурок. Мармот, ком гер!
И на лестнице наконец появился этот таинственный Забор, Забор Иваныч, как его называли в Важаихе. А на родине у себя, в Германии, он назывался Зобар Иоганнович Мейер.
Маленький, щуплый, с розовой доброй улыбкой, укутанный в очень широкий поварской балахон, он как–то сразу располагал к себе.
— Вы думаете, я — это есть одна изгородь? Забор? Ха–ха, это здесь так меня называют, Забор Иваниш. А я не обижаюсь. Мармотка тоже по–русски полушается Обормотка, а... а... он тоже не обижается, ха–ха... — весело объяснил он, поглядев на мое растерянное лицо.
И тут я удивилась еще больше. Огромный, раскормленный сурок услыхал свое имя. Он, видимо, решил, что мы уже достаточно знакомы, сел по–собачьи на жирный задок и протянул мне переднюю лапу.
— Что же ты левую? Правую надо давать, — сказала я в шутку.
Сурок шмыгнул носом и сейчас же исправил ошибку.
Я остолбенела.
— А ну, снова левую! А ну, правую!
— Дает! — Я присела на пол возле сурка.
— Ну, а обе лапочки сразу? Обе черные лапки охотно шлепнулись на мою ла-донь, и сурок выразительно скривил нос в сторону.
— Угостить тебя? Ладно. Дайте мне для него сладкую булку и яблоко... Где вы достали эту прелесть, Зобар Иоганнович?
— Досталь, — ответил с неожиданной сухостью немец и поспешно прибавил, — Вы что желаете, борч или, как это, — «чи»?
Я выбрала столик, подозвала Мармотку и принялась его угощать.
Он взял булочку когтистыми тонкими пальцами, прижал к мягкой груди и стал откусывать по маленькому кусочку. Каждый комочек он долго жевал и переваливал то за одну щеку, то за другую. Круглые щеки, мясистая, толстая губа, ловкие пальцы напо-минали детскую голову и руки.
Глаза у Мармотки были тоже как у ребенка, внимательные и толковые.
Нигде я не едала таких вкусных щей и бифштекса.
Я сказала об этом Забору Иванычу. Он прилег грудью на соседний столик, и мы разговорились.
В 14–ом году он попал в плен и жил в Сибири, в глубоком тылу. Никаких отзвуков войны не долетало тогда в тайгу, немец жил своим человеком в семье пчеловода Капитоныча за далеким городом Бийском. Вместе с этой полюбившейся ему семьей переехал Забор Иваныч еще дальше в глубь Алтая. И этот сказочно–чудесный край окончательно покорил сердце горожанина–чужестранца.
Но война кончилась. Прошло несколько лет. И Забора Иваныча все–таки потянуло на родину. Он оставил свою пасеку «Капитонишу» и уехал в Германию.
В Берлине он увидал множество нищих калек, жалкие обрубки и обломки людей — это были его несчастные товарищи по окопам. Защищая заводы и фабрики капиталистов, они все потеряли на фронтах. А, вернувшись домой, увидали, что места их на этих фабриках заняты и они — калеки — никому больше не надобны.
Те, у кого уцелели в боях руки и ноги, вздумали было протестовать. Среди них у Забора Иваныча было несколько близких товарищей. И вот товарищей у него больше нет: их замучили в тюрьмах.
— Я есть повар. Я много работаль в ошень богат и замечательны ресторан. Они судили, мучили товарища, потом кюшали сладки, жирны пирог. Это — генерал, буржуа, судья. Все продаваль свои совесть! Богач немец — это первый подлец. Я сказаль! Россия делаль революций. Германия будет, тож... Будет... тут опять чисты лес, рек красота...
— Но по вашей профессии вам надо жить в городе... В Москве есть фабрики–кухни. Там больше нужны ваше искусство и знания. — И в шутку прибавила: — Мармотка поехал бы с вами.
При этих словах Тумба за стойкой крякнул, а Забор Иваныч сердито швырнул на поднос ножи, вилки и ушел.
Столовую заполняли гости. Мармотка по–хозяйски обходил столики. Он ласкался к посетителям и собирал с них обильную дань. Особенно ласково и даже подобострастно встретил он уже знакомого мне по рассказам Забора Иваныча пасечника с пегой бородой Аксена Капитоныча.
— Почтение! — сказал бородач. — Ну, как живешь, Забор Иваныч? Воюешь? Когда в Москву соберешься, а? Все с этой скотинкой своей никак не расстанешься?.. Погоди — вот хлопну его из поганого ружья и руки всем развяжу, — пробурчал он про себя и с неожиданным озлоблением покосился в Мармоткину сторону.
Я давно уже кончила есть. Но мне не хотелось уходить из столовой. Сурок приютился возле меня. Он положил голову мне на колени. Я гладила его, и он вежливо блестел черными глазами.
Вдруг дверь с шумом распахнулась. В комнату, гремя сапогами, ввалился долговязый заспанный парень. Огромные кулаки висели у него почти до колен.
— Водки и закусить! — прохрипел он буфетчику.
В эту минуту я почувствовала — к моему колену тесно прижалось что–то мягкое, и услышала, как под мохнатой шубой сильно забилось чье–то сердце. Глянула под стол и увидела, что сурок страшно таращит глаза и, словно ожидая удара, испуганно втягивает голову в плечи.
Парень шагнул к столикам.
«Вжиг!» — охрипнув от страха, крикнул Мармотка. Он кинулся в кухню. По дороге он налетел на табуретку, опрокинул ее и совсем задохнулся.
Долговязый грубо захохотал и поддал ногой упавшую табуретку.
Тут из кухни выбежал Забор Иваныч. Я не узнала кроткого старичка, он был в бешенстве.
— Опять ти?! — закричал он на парня и с размаху вцепился ему в куртку.
Все кинулись их разнимать. Двое ухватили долговязого за руки. Остальные столпились вокруг и кричали ему в уши:
— Забор ошибся! Слышь ты, Акентий? Он думал, что это ты швырнул скамейкой в Мармотку.
— Погоди ты у меня, тухлая сосиска! Я–те научу на людей с кулаками бросаться. Ты у меня, брат, накланяешься. Где сурок? — Парень выругался. — Подавай его мне сию минуту! — Опять ругань. — Где мой сурок, спрашиваю?
Долговязый стряхнул с себя чужие руки, вытащил из–под буфетного прилавка мешок и побежал на кухню.
— Послюшь, Кеша, — остановил его Забор Иваныч. — Ти немножко пил. Ну, и я... я тоже ошень виноват. Прошу извиненья. Пойди, пошалюйста, спи. Мы говорим лютша завтра. А?
— Прочь с дороги, свинина! — заревел долговязый. — Не желаю я никаких разговоров. Где сурок?
Парень тыкался во все кухонные углы. Залезал под стол, отодвигал мусорные ящики.
Я взглянула на Забора Иваныча. Лицо у старика кривилось, словно от боли.
— Где сурок?! — продолжал орать парень. Он обшарил все закоулки, трахнул кухонной дверью и выскочил на улицу.
Ну и дела!
Я обернулась к Аксену Капитонычу. Он, по моим наблюдениям, во всем должен был сочувствовать Забору Иванычу, Но, представьте, вместо сочувствия, он во время драки потихоньку куда–то убрался. Ни за столиками, ни вообще в помещении столовой его и не оказалось.
Я засиделась у Забора Иваныча. Старик был, видимо, очень расстроен стычкой с Акентием, но старался этого не показать.
Когда все ушли, мы составили столики, убрали посуду, навели чистоту в кухне. Забор Иваныч вскипятил самовар и радушно угощал меня моченой брусникой и медовым черничным вареньем.
Перед уходом я заглянула наверх, в комнату Забора Иваныча. В ней были только кровать, белый некрашеный стол и старинный кожаный кофр–сундук. Но удивительная опрятность придавала комнате вид необычайно достойный.
Над столом висели три карточки.
— Это ваши родные? — спросила я не вглядевшись.
— Родные.
Я подошла ближе. На одной фотографии щупленький мальчик с бубном обнимал сидящего у него на коленях сурка. Вторая фотография изображала молодого человека в светлом костюме и мягкой шляпе. У него на ладони сидел осанистый сизый голубь. Молодой человек смотрел на голубя и смеялся. Третья фотография была сделана уже тут, в Важаихе, — Забор Иваныч в поварском балахоне и бескозырке сидел на бревнах возле «Аппетита». У ног его вытянулся столбиком Мармотка.
— Этот, первый, тоже звать Мармотка, — глядя на первую фотографию, тихо сказал Забор Иваныч.
Этот первый Мармотка обошел с маленьким Зобаром всю Германию. Мальчик пел и тряс бубен, а веселый сурок кувыркался, танцевал и, кланяясь, обходил с картузиком круг зевак. У маленького Зобара была в жизни большая привязанность. Теплый мохнатый комок, укладываясь после рабочего дня рядом с мальчиком, согревал его сердце. Однажды в тихом лесном городке Шпрейбурге мальчонка собрал необычно много денег. Голова у него закружилась. Он почувствовал себя богачом. Проходя мимо кассы бродячего цирка, он купил билет на вечернее представление.
Вечером он хорошо накормил Мармотку, уложил его спать и побежал в цирк.
Никогда в жизни он так весело не смеялся...
И никогда в жизни так горько не плакал...
Вернувшись в дрянную каморку, где оставил Мармотку, он нашел окно открытым. Сурка и котомку украли.
— Я в детстве был нищий, и все люди, и нищие и богатые, клевали мне в темя. Друзей у меня взяли в тюрьму. Теперь мне друзья... О, вот и вспомниль... Где же Мармот? Какой умный! Сидит и не дышит.
Забор Иваныч перегнулся через перила и позвал в темноту кухни:
— Мармотка, Мармот, ком гер!
Я не стала ждать появления сурка.
— До свиданьи, голюбшик! Приходите к нам завтра. Я буду приготовить сладкий рисовый пудинг с компотом. Ошень, ошень прошу... Ауфвидерзейн!
Утопая в грязи на вечерних улицах, я больше нисколечко не раздражалась. Я даже твердо решила и завтра так же тонуть.
Обязательно приду на пудинг с компотом.
Ночью снился мне толстый сурок. Он тихо вылез из–под кровати и смотрел на меня не мигая.
Вверх по реке, к Аргуту, недалеко от монгольской границы лежит высокогорное каменистое плато. Пустынное, дикое место. Кажется, местность эта совершенно безжизненна, мертва...
Но это так только кажется. В долине ни на минуту не прекращается жизнь. На протяжении десятков километров тянется здесь под землей огромный сурчиный «город».
Сверху город совсем неказист: лысые холмики, круглые норки под прикрытием камней, и от каждой норы аккуратно протоптанная дорожка. Сурок бежит к норе всегда по одной и той же дорожке. Это хорошо знают промысловые охотники. Они ставят на пути ловушку, и сурок редко минует ее.
Весной в этом сурчином городке родился Мармотка.
Кроме него, в норе были еще два сурчонка. Нора была очень хорошая. Два коридора, отполированные спинами старых сурков, сходились в сводчатой комнате. В боковом проходе помещалась уборная. Отсюда же, в случае опасности, можно было вы-браться вторым ходом в укромное место за грудой камней.
Сурчиха–мать не отходила от маленьких. Сурчата быстро росли и уже начинали высовывать из норы пучеглазые мордочки.
Наверху, словно дачник, гулял вперевалочку старый сурок. Он был толстый, коротконогий; брюхо у него висело почти до земли. Он ходил по своему «путику» , срезывал острыми резцами степные травы — кипрей, горичавку, типец — и раскладывал их на камнях для просушки. Сурок готовил подстилку. Он ворошил ее, перебирал и перекладывал с одной стороны на другую.
С наступлением холодов сурки перетаскивали сено на зимнюю квартиру. Она была больше летней.
Родители и подросшие молодые, все разжиревшие и толстые, как будто они к зиме укутались в теплые фуфайки из сала, зарывались в сено, плотно прижимались друг к дружке и без еды, без питья, без движения замирали на несколько месяцев.
Но сейчас было лето. Сурчиха и молодые только еще собирались вылезать наверх.
Мармотка был из сурчат самый шустрый. Он первый начал вылезать из норы и подолгу грелся на солнышке. Он смотрел, как отец отходил по дорожке, вытягивался столбиком, двигал мокрым носом и мелодично свистел. Среди холмиков и на камнях возникали такие же стоячие фигурки. Они осматривались по сторонам и словно кланялись друг другу. Их хорошо развитые голоса звучали выразительно и напоминали людской разговор.
Маленький сурчонок во всем подражал отцу. Он тоже вытягивался столбиком и старательно отставлял распушенный коротенький хвостик.
Однажды старый сурок сидел, опустив вдоль тела темные лапки, и, морща по обыкновению мокрый нос, определял направление ветра. Вдруг он беспокойно потянулся вверх.
«Вжиг, вжиг!» — резко крикнул сурок и исчез под землей.
В мгновение ока наверху никого не осталось.
Ширококрылый беркут, проплывая над горной долиной, даже своими зоркими глазами не мог разглядеть ни одного зверька. Сурки притаились в норах, Беркут покружил над городом и хотел уже лететь прочь. Но вдруг опустился ниже, еще ниже... и неподвижно повис в воздухе. Между сурчинами бегала удивительная белая собачка. На хвосте у нее висел колокольчик, и собачка, виляя хвостом, непрерывно звонила.
Собачонка была одна. Только у камня лежала куча сухой травы. Это была та самая трава, которую сурок готовил на зиму для подстилки.
Орел опустился еще ниже. Тень его крыльев скользнула по собачке. Она подняла голову и залаяла.
Орел рассматривал собачку сверху. Снизу, из нор, таращились на нее сурки.
Колокольчик позвякивал. Собачонка была робкая, слабая. А сурки были непуганые, смелые. Сначала они фыркали и ворчали на собачку из нор. Но вот Мармоткин отец выскочил и зафукал на неё, словно кот.
Собачонка отбежала.
Увидев, что враг так легко отступил, наверх вылезло еще несколько старых сурков. Они все принимали угрожающие позы и поднимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть кисточку на собачкином хвосте и услышать звяканье колокольчика.
Собачка между тем отбегала все дальше от нор.
Любопытные сурки отходили по своим «путикам».
Вдруг сухая трава у камня выбросила гром и молнию. Сурки бросились к норам. Юркнул вниз и Мармоткин отец. Дорожка за ним стала красной от крови. Он дополз до сводчатой комнаты и там умер.
А наверху в это время вот что случилось.
Над сурчинами низко пронесся орел. Из кучи травы выскочил человек. Он кричал и грозил кулаком. Но орел не оглядывался. Ритмично вздымались широкие крылья. Орел улетал. В сильных лапах он уносил собачонку. Акентий целый час простоял на дорожке, ругаясь и проклиная жителей злосчастной норы.
Но от ругани и проклятий ему не сделалось легче. Он взял лопату и принялся копать.
Акентий был здоровый детина, но и для него раскопать сурчиную нору было нелегким делом. Сурки роют свои норы глубоко. Кроме того, нужно еще знать расположение ходов и выходов.
Акентий ничего не знал о сурчиных повадках. Он вовсе не был охотником. Отец его был первым кулаком и богатеем в огромном алтайском селении. С помощью немца Зобара Иваныча он выгодно торговал в своей частной харчевне. «Аппетит» был всегда переполнен.
Папаша торговал за буфетной стойкой, а сынок целые дни проводил, развалясь за столиками: он считал свою персону необходимым и обязательным украшением каждой компании и быстро спился.
Однажды в «Аппетит» собралась после охоты промысловая артель. Охотники два месяца «сурковали» в горах Тарбагатая. Они добыли много дорогих шкурок сурков–тарбаганов, сдали их в кооперативы охотсоюза и сейчас с деньгами, обновками и гостинцами для своих семейств возвращались домой, вспоминали трудные дни промысла, словно занятную прогулку.
Акентий по обычаю грубо встрял в их разговор. Захмелев, он стал орать, стучать кулаком по столу и доказывать, что уж если он возьмется промышлять, то сразу же утрет всем носы первой же своей охоте. Но промыслить сурка оказалось труднее, чем орать о своих доблестях, — собачка погибла, сурки попрятались. Придется возвращаться с пустыми руками.
Парень копал и ругался, ругался и копал, пока, наконец совсем не выбился из сил. Он уже собирался бросить это дело, как вдруг лопата обрушила потолок сводчатой комнаты. Парень яростно всадил ее еще раз. Этим рывком он перерубил одного из сурчат. Мать–сурчиха с другим сурчонком спаслась через запасной ход. Старый мертвый сурок и Мармотка попались в руки верзиле.
Акентий ободрал шкуру с убитого сурка, бросил ее вместе с живым сурчонком на дно кожаной алтайской сумины, сел на лошадь и, полный злобы, отправился домой.
Целые сутки сурчонок провел без пищи и отдыха. Лошадь шла тряской рысью. Бедного Мармотку толкало, подкидывало. Он замирал в неудобной, мучительной позе. Он пробовал жаловаться и пищать. Вконец измученный и обозленный, он вгрызался зу-бами в ничем не повинную шкуру своего отца.
Но вот лошаденка вбежала во двор «Аппетита». Мармотку вытряхнули из сумины, и он, еле волоча ноги, подполз под огромный черный ларь.
Вернувшись домой, Акентий запьянствовал и десять дней не вспоминал, что у него под ларем голодает несчастный сурчонок. Мармотка совсем подыхал. Изредка ему удавалось подобрать на полу корку хлеба. Он утаскивал ее под свой ларь и там ел.
Однажды, протрезвившись, Акентий заметил под ларем мордочку. Он набросал хлеба на середину комнаты. Мармотка не вытерпел, вылез.
Акентий швырнул в него тяжелым подкованным сапогом и перебил ему лапу. Кость хрустнула в двух местах. Мармотка бился и скрежетал от боли зубами. Акентий и его тумбообразный папаша — хозяин столовой — собирались прикончить зверька.
Тут вступился Зобар Иванович. Убить — это всегда успеется. Он хотел попробовать вылечить сурчонка. И ему охотно выкинули тогда эту «бесполезную падаль».
Сурчонок переехал через двор в теплую кухоньку «Аппетита». Зобар Иванович выстрогал две легкие деревянные планочки–лубки, сдавил ими сверху и снизу перебитую лапку и туго забинтовал. Мармотка кусался, царапался и смотрел на мучителя не-навидящими глазами.
После операции Зобар Иванович уложил своего пациента в низкую круглую корзинку, угостил его молоком, обрезками моркови и свеклы. Он гладил его взъерошенную головенку и ласково приговаривал: — Мармотка, Мармотка!
В этот вечер Зобар Иваныч с особенным старанием убрал свою кухню. Ослепительно начищая медные кастрюли, старик, впервые за много–много лет, запел немецкую песенку. В песенке говорилось о нищем мальчике, собиравшем милостыню, и о славном, веселом сурке.
И мой всегда, и мой везде,
И мой сурок со мною... ––
торжествующе повторял Зобар Иванович в конце каждой строфы.
Мармоткина лапа медленно заживала. За время болезни сурчонок отъелся. Шерсть на нем стала лосниться и блестеть.
Каждый вечер, подсчитав выручку, «Каменная Тумба» уходил через двор к себе во флигель. Зобар Иваныч закладывал дверь засовом и принимался за уборку, громко распевая свою песню.
Заслышав знакомые слова припева, Мармотка сейчас же вылезал из–под стола и, прихрамывая, ковылял к Зобару Иванычу.
Он теперь по любому куплету и даже по любой ноте из музыкальной фразы узнавал эту песенку. Он радостно приседал, улыбался и подметал хвостом пол перед своим покровителем.
Зобар Иваныч не только вылечил Мармотку, но и дал ему хорошее воспитание: Мармотка научился здороваться, умирать, кувыркаться через голову и танцевать.
В Важаихе в базарные дни после торга не говорили больше: «Пойти, что ли, в «Аппетит»? Там немец такие пироги загибает!», а говорили теперь: «Пойдемте, ребята, в столовую. Поглядим на Обормотку. Вот зверюга занятная! Чисто в цирке на представлении».
Счастливая жизнь наступила для Мармотки. Он был всегда сыт. Посетители «Аппетита» восхищались им и наперебой баловали его. Мармотка свободно ходил по столовой, выходил во двор и даже на площадь. Он стал таким большим, раскормленным и смелым, что собаки боялись его, и когда он столбиком выстраивался на крылечке, они все лаяли на него до хрипоты, но только издали.
Казалось, все в Мармоткиной жизни шло отлично. Но было одно, что омрачало Мармоткино существование. Это Акентий. Когда Мармотка издыхал, Зобар Иваныч не договорился с Акентием о своих правах или о продаже ему сурчонка. Теперь же, когда Мармотка поправился и сделался любимцем важаихинской публики, достойные родственники — Тумба и Акентий — на все просьбы старика отвечали: «Мы сурками не торгуем. Мармотка у нас не продажный».
Акентий сам хотел показывать всем «своего» сурка. Но Мармотка боялся его, как огня. Долговязый приходил в бешенство. Он пробовал уносить к себе сурка. Он гонялся с мешком за несчастным Мармоткой, и для Зобара Иваныча эти дни были тяжелым испытанием.
Очутившись у Акентия, Мармотка сразу терял все свои хорошие манеры. Он забивался за ларь, скрежетал зубами, ворчал и не дотрагивался до пищи.
Кончалось тем, что Зобар Иваныч шел к хозяину «Аппетита» и упрашивал его отдать Мармотку обратно в столовую.
Каменная Тумба милостиво соглашался попросить Кешку.
Только, — прибавлял он между прочим, — Забор Иванович за это тоже должен уважить хозяина и работать на кухне без судомойки.
Что было ему делать?! Кулак выжимал все соки из батрака.
Зобар Иванович шел на все.
Мармотка опять распластывался у его ног и радостно слушал знакомую песенку.
Зобар Иванович готовил, мыл посуду, убирал все помещение, ходил за покупками и выполнял все больше и больше разных тяжелых обязанностей.
Пасечник Аксен Капитоныч ссорился со стариком. Он кричал ему, что Акентий и Тумба вытянут из него все жилы. Зобар Иванович отмалчивался. Только песенка, которую так знал и любил Мармотка, день ото дня звучала печальнее.
На другой день, после встречи с Зобаром Ивановичем я прямо не могла дождаться обеденного часа.
Наконец часы доползли до двенадцати. Тут, случайно взглянув на улицу, я увидела старого мастера. Старик шел прямо ко мне. Сегодня он показался мне гораздо старше. Щеки у него были не розовые, а серые. Под бескозыркой не было улыбки. Да, впрочем, и бескозырки самой тоже не было.
На голове у Зобара Ивановича был теплый вязаный колпачок, шея замотана таким же шарфом, а в руках — большой старомодный чемодан.
— Здравствуйте, голюбшик мой, — невесело сказал старичок.
Поставил свой чемодан. Сел. Сгорбился и припух на нем, как большая зябкая птица.
— Ну зоо, — продолжал он, немного помолчав. — Вы уже замечаете? Я еду в Москву мит с вами, цузамен. Это нам дешевле и лютше. На железной дорог два шеловека — это ошень хорошо. Ошень, ошень весело...
Он глубоко вздохнул и прижал носовой платок к покрасневшим глазам.
— Шлусс — кончено! Фарфлухте — разбойник! Бешены люди! Акентий пьянствовал и разбойствовал круглу ношь. Он в сарае. Хрыпит. Как он ругаль!.. Как он грозиль!.. Ах ты, гадин такой! Шоб ти потраскался!! — тонким срывающимся голоском проговорил Зобар Иванович. — Он... Он сделал Мармотку самое хужее... Убиль такой славный Мармотк... убиль...
Старик затрясся от рыданий и махнул рукой.
Я ахнула...
В Москве мы долго искали, бегали по развым объявлениям, пока не наткнулись на одно, вывешенное на двери громадного дома. В объявлении говорилось, что здесь, при модном ресторане–столовой, открываются курсы по подготовке поваров.
— О–о–о! — сказал Зобар Иванович и поднял вверх указательный палец. — Это есть то...
Прошло несколько недель. Разбирая алтайские заметки, я нашла запись, сделанную в Важаихе: «Не забыть узнать для пасечника Аксена Капитоновича про новые части к ульям Дадана Блата».
Я навела справки и написала обо всем пегобородому пасечнику. Заодно я сообщила, что его старый приятель отлично устроился и готовит сейчас новые кадры знаменитых поваров. Ученики его любят, но Зобар Иваныч часто скучает по Алтаю и, когда приходит ко мне, всегда вспоминает Капитоныча и бедного Мармотку.
Зобара Иваныча я видела почти каждый день. Я любила бывать в белой кухне, похожей на дворец. Розовый и торжественный, Зобар Иваныч, в белом халате и в бескозырке, дирижировал у кафельной плиты яркими медными кастрюлями. А кастрюли кипели, бурлили, клокотали и выстукивали победные марши звонкими крышками.
В девять часов вечера Зобар Иваныч снимал халат и аккуратно вешал его в стенной шкаф.
Мы выходили через боковой коридор в общежитие курсантов. Тут же помещалась комната Зобара Иваныча.
Однажды в этой комнате, на знакомом мне кожаном кофре, мы увидели посылку. Она с утра стояла около радиатора и порядком нагрелась.
— Срочная, ценная — на сто рублей, — сказала я, разглядывая обшитый мешковиной ящик.
— Ошибка, — спокойно заметил Зобар Иваныч. — Кто мне будет присылки присылать?.. Мейер, Майер, а кто есть такой Майер? — Неизвестно.
Я хотела ответить, но тут посылка... чихнула.
Когда мы отодрали крышку, Мармотка, укутанный в теплые тряпки, уже привстал в ящике на ноги и сладко потягивался.
Мы вытащили и раскутали его.
— Мармотка, Мармотка! — повторял Зобар Иваныч. — Так ты зовсем живой, голюбшик Мармот!
Сурок, видимо, не узнавал его и недоуменно, как сова днем, хлопал глазами.
«...Спервоначально, как я его уволок, он бунтовать у меня взялся. Есть — ничего не ел. И шибко стал нужный . Жить я ему определил в старом омшаннике. Подале, к зиме, как захолодало, стал Мармотка нору копать и завалился в нее на всю зиму...» — писал в письме, засунутом между тряпками, пасечник Аксен Капитоныч.
Вечером у Зобара Иваныча был настоящий бал. Я как–то рассказала курсантам о нищем детстве и одинокой, безрадостной жизни Зобара Иваныча. Они прекрасно знали историю двух злосчастных Мармоток и всегда были бережны и ласковы с одиноким стариком.
Теперь они все явились порадоваться вместе с ним. Стол заставили угощением и подняли стаканы с шипучим ситро.
— Глюклихь бин их, зер глюклихь — я ошень, ошень шастлив... — бормотал Зобар Иваныч, — спасибо, спасибо, дети мои!
Никогда в жизни возле него не было столько друзей.
— А у нас всегда так, у нас народ дружный! — кричали ему ребята.
На полу у стены стояли тарелки и блюдечки. Мармотка ходил между ними, ел, пил, громко чмокал и поднимал при каждом глотке кверху голову, словно гусак.
В конце вечера появилась гитара. Мы все по очереди пели, плясали и декламировали. Мармотка со своей программой выступил тоже. Он со всеми поздоровался, всем подал лапку, потом два раза перекувыркнулся через голову и «умер». Пришлось воскресить его яблоком.
Дошла очередь выступать и до Зобара Ивановича.
— Ну, гут! Я вам хочу петь. Только я... я ошень их бин ауфге... брахт — я ошень волную.
В комнате стало тихо–тихо.
И тогда дрожащий старческий голос запел о нищем мальчике и сурке. Зобар Иванович пел по–немецки. Я тихонько переводила эту чудесную песенку:
По разным странам я бродил,
И мой сурок со мною.
Куска лишь хлеба я просил,
И мой сурок со мною.
И мой всегда,
И мой везде,
И мой сурок со мною...
Старый Зобар Иванович кончил петь. Ребята окружили его, трясли ему руки и упрашивали спеть еще. Зобар Иванович повторил песенку три раза.
Только я больше ее не переводила. Я смотрела на одного из слушателей. При первых же звуках песни он вытянулся, как на параде. Он все узнал: и слова и напев — и, как полагается музыкальному сурку с хорошим голосом и слухом, принялся присвисты-вать и подпевать, весело тараща на нас блестящие, словно мокрые, глаза.
Райт
- Просмотров: 1825
Райт — Перовская
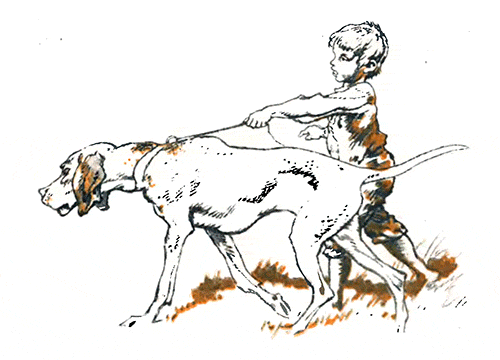
Он поселился у нас, когда мне исполнилось ровно три года. Мы с ним были ровесниками. Райт был тоже трёхлетка. Только он — премированный английский пойнтер [1] — был в ту пору уже в полном расцвете, а мне ещё часто помогали вытирать мокрый нос: нелегко управляться с платком человеку в три года.
Пока Райт привыкал, его одного не пускали на улицу. Отец брал его на сворку и гулял с ним в саду и под окнами.
Я сидел на подоконнике и не мог налюбоваться Райтиком. Он был белый, с жёлтыми пежинами, мускулистый и сильный; глядел гордо и весело и, казалось, был всем на свете доволен.
Как-то утром, когда дома никого не было, я взял со стула шнурок, прицепил один конец к ошейнику Райта, а другой к своим брючкам и тоже повёл его, как большой, за ворота.
Райт тотчас же принялся обнюхивать пни и завалинки и потащил меня за собой в переулок.
Сначала дома меня не искали. Потом хватились. Мама заглянула в одну комнату, в другую… Обежала весь дом, поискала в чулане, на чердаке, под кроватями, покричала во дворе и в саду, побежала к соседям… Все стали раздумывать и гадать: что же такое могло с малышом приключиться?
Не свалился ли я в самом деле с окошка?! Если в сад — то ещё не беда, а вот если на улицу?! Проходили коровы, и меня «очень просто» мог и затоптать и запороть деревенский бугай…
От таких разговоров и утешений мама громко заплакала. Но тут кто-то припомнил, что недавно на выгоне резвился чей-то мальчонка с собакой.
Побежали на выгон.
Там, в траве, устав и наплакавшись, спал я. Райт сидел надо мною и тихонько скулил. Он давно отвязался и мог бы отлично уйти, но он видел, что его малолетка-хозяин совсем обессилел от беготни и с ним что-то неладно. Пёс остался на месте и грустил надо мною, а когда я уснул, охранял мой сон.
С этого дня зародилось во мне уважение к Райту. Оно стало гораздо больше, когда я подрос и увидел его на работе.
Каждой осенью к отцу собирались охотники. Вся артель уходила в заросли, в плавни, на утиный перелёт.
Хлопали ружья, хлопали по воде сапоги, собаки плавали вдоль островков, словно маленькие пароходики.
А охотники то и дело просили отца:
— Павло, а Павло! А ну, иди выручай! Моя собака никак не разыщет утку. Ты пошли своего Рай-тика. Этот найдёт!..
Райт охотно шёл в воду и никогда не возвращался без утки.
Высоко подняв голову, он бережно и старательно подносил добычу отцу и, словно не желая расстаться с мягким комочком, медленно укладывал её у хозяйского сапога.
— Вот собака! Вот это помощник! — восхищались охотники.
И я тоже ласкал славного Райта и гордился, что наша собака всегда всех выручает.
Год за годом… И вот нам обоим уже по десять лет. Райт стал старой, морщинистой, заслуженной собакой. Я — загорелым, здоровым мальчишкой.
— Ну, теперь ты взрослый, — сказал в день моего десятилетия отец. — Получай от меня подарок.
Он достал своё второе ружьё и разложил на столе полное к нему снаряжение.
— Тут в мешочках порох и дробь. Это ящик с патронами. Здесь два шомпола. Это сумка для дичи. Приучайся, сынок, промышлять. И Райтика моего можешь брать на охоту. Он тебя лучше всяких профессоров охотничьей сноровке обучит.
Я обернулся. Райт сидел, как всегда, у отцовского стула. Короткошёрстый, почти голый, белый с жёлтыми пежинами. Длинные уши свесились на морду, как жёлтые тряпки. На лбу он собрал многодумные складки и загляделся на мух у себя на хвосте и на лапе.
«Хам!» — он громко и неожиданно щёлкнул зубами. Мать вздрогнула и выронила чашку.
— А, чтоб ты сдох! — сказала она плачущим голосом.
Пёс задумчиво улыбнулся, развесил губу и пустил до самого пола струйку прозрачной слюны.
Ранним утром мы шагали через село. Райт воспитанно шёл у ноги. На одном плече у меня висело ружьё. На другом плече — сумка. А на поясе — патронташ с патронами. Мы направились через поля к просам и подсолнухам, где водились перепёлки.
Я взял ружьё в обе руки и скомандовал Райту:
— Вперёд!
Старый пёс сразу весь загорелся. Глаза у него стали тёмные, большие, уши насторожились, мускулы заиграли под шёлковой кожей. Он опустил голову и, помахивая своим прутом [2], стал искать. Челноком сновал он передо мною: слева — направо, справа — налево… И на повороте взглядывал, слежу ли я за его работой.
— Да-да, я вижу, — отвечал я ему еле слышно и кивал головой.
Стоп! Райт пригнулся, крадучись сделал шажок, другой и замер, подняв переднюю лапу.
Долго он держал перепёлку.
Наконец я поднял ружьё.
— Пиль!
Райт рванулся. Перепёлка взлетела. Я выстрелил. Райт помчался искать в бурьянах, за подсолнухами, возле снопов. Искал, искал, но ничего не нашёл.
От конфуза, что он, Райт, вдруг не может найти дичи, он стал шумно дышать: «Ах-ах! Ах-ах…» Фыркал, чихал, волновался.
Он ещё и ещё раз внимательно обыскал всё до самого ничтожного кустика. Потом озабоченно уставился на меня.
«Представь себе, ничего не могу найти», — сказала мне его расстроенная морда.
— А ты больше бы суетился, — ответил я, покраснев. — Что же ты ищешь, когда ничего вовсе и не падало? Умён больно!..
Райт прислушался. Поглядел куда-то вбок и чихнул…
Пошли дальше. Я второй раз послал Райта искать. Вот он снова присел, снова крадётся. Опять вытянулся и оцепенел над притихшей пичугой.
— Пиль!
Взлёт. Я старательно прицелился, аж язык высунул. Выстрелил. Снова Райт мечется по полю, ищет добычу, вопросительно смотрит сквозь бурьян на меня. И опять ищет, ищет, ищет…
Вот он вернулся. Сидит. На лбу — глубокие складки. Он старается сообразить, что это за охота такая. Почему ни одной перепёлки нет ни на земле, ни в сумке?
— Ну, чего ты расселся, лентяй? — кричу я запальчиво. — Ну, чего ты уставился? Узоры на мне нарисованы, да? Не попал и не попал. И не твоё это дело! Ступай дальше работай! Вперёд! Ну! Вперёд!
Райт — ни с места. Он нахально зевает. Чешет за ухом ногой…
— Я кому говорю?! Райт!..
Я ударил его ремнём по спине. От обиды у него затряслись губы и он стал приговаривать: «Аа-бу… бу… бу!»
Но после третьего моего позорного промаха пёс повернулся, заломил одно ухо назад и, не слушая ничего, побежал прямо к дому.
— Райт! Назад! Сейчас же назад! Райтик! Ра-а-а-а…
Я бежал за ним через поле, махал ружьём, кричал, уговаривал.
Собака решительно уходила от меня домой.
На бегу я споткнулся о камень и растянулся.
Это было уж слишком. Я громко, отчаянно заплакал и зарылся носом в траву.
«Умру, вот!.. И пусть этот бессердечный пёс радуется тогда у меня на могиле».
Вдруг что-то прохладное ткнулось мне в щёку. Это был Райт. Он вернулся, услыша мой плач. Он заботливо меня осмотрел, обнюхал и лизнул прямо в нос.
Я ухватил руками его губастую морду и выплакал ей всё своё горе. Райт ещё раз лизнул меня в губы, поискал зубами у меня на виске блох, и мы с ним, помирившись, снова отправились в заросли.
Я совсем не надеялся больше на свою стрельбу. Я понял, что никакое уменье не даётся так, сразу. Я только думал о том, что вот, например, в сказках случаются же разные чудеса! И со мной тоже может случиться — вдруг я попаду…
И ещё я думал, как бы мне так, незаметно, вернуться домой, чтобы меня не подняли на смех товарищи.
Пока я, прихрамывая, плёлся по полю, Райт кружил по кустам, фыркал, нюхал, оглядывался. Один раз он убежал далеко за подсолнухи и минут пять пропадал там. Когда он показался снова, в зубах у него была перепёлка. Что это? Ведь я же не стрелял?! Откуда же он раздобыл птицу?
Райт положил добычу к моим ногам и приветливо повилял: бери, мол, не стесняйся!
Я понял, что, не надеясь больше на охотника, пёс сам поймал и задушил перепёлку.
Воровато оглянувшись, не идёт ли кто, я положил мёртвую птицу на камень и выстрелил в неё почти в упор. И «попал», разумеется, в цель.
Хитрый пёс второй раз подал её мне.
До заката мы с ним таким образом «убили» ещё двух перепёлок.
Солнце уже село, когда мы снова проходили деревней. Ушибленная коленка у меня сильно болела. Голодный живот сердито бурчал. Но вид был геройский. На плече висело ружьё, у ноги шёл всем известный, прославленный Райт, а из сумки висели головки «убитых» перепёлок.
— Сколько взял? — спросили мальчишки, столпившись для встречи у брёвен. — Кажись, небогато…
— Три штуки всего, — ответил я равнодушным, охотничьим голосом и скрылся в воротах.
А они от восхищения так и остались с открытыми ртами.
Я стал учиться стрелять. Возле грядок, за коноплями, был у нас маленький домик — уборная. Я нарисовал там на дверке бекасика и целыми днями за ним «охотился».
Каждый раз, когда я снимал со стены ружьё, Райт, кряхтя, вылезал из-под кровати и шёл вместе со мною к дощатому домику.
Я начинал палить и считать дробинки, а Райт бегал вокруг домика, искал в конопле, в крапиве и всё удивлялся, на кого это я так упорно и глупо охочусь: стрельба, шум, а приносить нечего!
Зато во вторую нашу охоту я вскидывал ружьё, как настоящий охотник. За первым же выстрелом Райт поднёс мне комок в мягких перьях. Уже две перепёлки приятно оттягивали мою сумку. Райт восторженно хлопотал в бурьяне.
Мне казалось, что пёс стал глядеть на меня с уважением. Но тут… третья перепёлка улетела вслед за выстрелом. И четвёртая тоже не захотела почему-то упасть.
Райт нахмурился и повернул было к дому.
В это время в стороне где-то хлопнул выстрел. Райт помчался туда. И успел как раз вовремя. Чужой пёсик старательно нёс перепёлку хозяину. Райт сшиб его с ног, забрал у него дичь и без всяких стеснений приволок её мне.
— Ну, собака!.. Ну что за собака! — приговаривал я, засовывая в сумку неожиданный Райтов подарок.
Мы сделались неразлучными. Дома Райт не сидел уже возле отца. Он всюду искал меня, и я замирал от блаженства, когда он клал свою умную слюнявую голову на мои колени.
Я сам не знал, до чего я полюбил эту собаку!
Целыми днями мы с ним бродили по зарослям и пашням. .
Теперь я стрелял много лучше и уже не боялся звать с собой на охоту товарищей.
Мы все почернели от солнца и полны были охотничьими приключениями, в которых первое место всегда занимал Райт.
Зимой мы помогали охотникам: загоняли зайцев. Только Райт с нами не выходил.
Он зимой всегда зяб и дрожал. У него была очень короткая шерсть, а живот — почти голый.
Он встречал нас восторженным лаем, вертелся, прыгал и стучал своим гибким хвостом по коленям и стульям.
На крыльце повисали убитые зайцы. В комнате сильно пахло от ружей жжёным порохом, дичью, псиной и мокрыми портянками. В печке пылали дрова. И у меня после холода нос разгорался, как головня.
Мы любили рассказывать, что было с нами в степи, на охоте. Все смеялись, расспрашивали. Райт обязательно садился напротив меня и слушал. Если я говорил про него, он стучал своим голым прутом об пол. Когда разговор затихал, Райт закрывал глаза и, засыпая, покачивался из стороны в сторону.
— Шёл бы ты спать, старичок, — пытались согнать его с места родные.
Райт встряхивал головой, бурчал, упирался и снова внимательно слушал, пока не начинал опять кунять носом.
На другой год родители устроили меня в городскую школу, за сотни километров от нашей деревни. Отец сам отвозил меня на станцию.
— А с учителем своим ты попрощался? — спросил он, когда мы с вещами сходили с крыльца.
Райт сновал между домашними. Отец свистнул ему.
— До свиданья, Райтик, — сказал я и протянул ему руку.
Он серьёзно вложил в неё лапу. И тут, словно поняв, что я уезжаю, кинулся мне на грудь.
В школе все мои одноклассники знали о подвигах Райта. Я всем показывал его карточку.
— Вот приедете на лето к нам в деревню, увидите его сами, — говорил я друзьям.
И мы все вместе мечтали о будущих наших охотах.
В каждом письме мне писали о моём верном товарище, и я всегда посылал ему свой привет.
Но вернуться домой мне пришлось только через три года.
Мы с товарищем не стали дожидаться подводы и отправились со станции пешком. Нам навстречу с крыльца бросились родные. Прибежал какой-то чужой, золотисто-коричневый пёс, с волнистой мягкой шерстью. Повилял, попрыгал, порадовался.
— Это новый, ирландский сеттер. Отцу в премию дали. У него золотая медаль есть и грамота. Красавчик на редкость и очень культурный.
— А где же наш Райтик? — спросили мы разом.
— Райт совсем постарел: глухой стал, да и видит неважно. Вот он тоже бежит.
По половицам застучали когти. Сгорбленный и седой, в комнату вбежал Райт. Я его приласкал. Он потёр об меня один бок, другой, пробубнил: «Аа-бу-бу» — и улёгся на солнышке.
— Он тебя не узнал, — догадались родные. — Он ко всем теперь так ласкается.
Не узнал! Выжил старый из памяти. Я вздохнул. Райт лежал на полу и дремал. Не узнал!
За обедом ко мне подошёл новый сеттер. Я погладил его, и он сел у моего стула.
Райт поднялся. Рявкнул и сразу отбросил его к двери. После этого он потоптался на месте, поглядел мне в лицо и обрадованно сунул ко мне на колени свою голову.
— Нет, узнал! Ишь узнал как! Другого никого ко мне не подпускает.
Да, Райт вспомнил меня. В этом я убедился.
На другой день, когда все ещё спали, мы с товарищем улизнули на охоту с золотистым Красавчиком.
С первого выстрела мы убедились, что он никакой нам не помощник: то он поднял птицу раньше, чем нужно, то спугнул её ненароком. Уши у него развевались, хвост суетливо вилял, глаза были невнимательные, и весь он — оголтело-весёлый и непослушный.
— Привязать его мало на цепь, этакую дворнягу! — огорчённо сказал мне товарищ. — Только зря распугивает всю дичь…
Мы, измучившись, сели на землю и стали думать, куда нам податься теперь. Вдруг на бахчах закачались подсолнухи. На открытое место вышел кто-то белый и важный.
— Райтик! — крикнули мы.
Райт услышал и радостно кинулся к нам.
Первым делом он откатал по земле злополучного сеттера и велел ему «не соваться вперёд батьки в пекло». Потом, прочитав у меня на губах команду «вперёд», весь зажёгся, помолодел и уверенно засновал передо мною: слева — направо, справа — налево.
Стойка. Выстрел. Товарищ мой в полном восторге пошёл колесом и скорчил отчаянную рожу золотистому франту.
Перепёлка упала близко возле Райта, и он торжественно подал мне птицу.
— С полем, Райтик! С полем, верный, старый товарищ!
Мы взглянули на сеттера.
— Вот учись, рыжий неук! Следи, наблюдай и во всём подражай.
Щенок не вынес стыда, повалился на спину и жалко откинул заднюю ногу.
Мы все весело двинулись дальше.
Снова стойка. И выстрел. И опять Райт приносит добычу…
Третью птицу нашёл и по всем правилам замер над нею, поджав лапу, щенок.
Товарищ прицелился. И Райт, отобрав у щенка перепёлку, вручил её мне.
Мы решили тогда разделиться. Товарищ с Красавчиком двинулись влево, а мы повернули направо.
Вскоре Райт опять отыскал и поднял для меня перепёлку.
Только что это с ним? В смятении он ищет убитую птицу и не может найти… Спотыкается, мучительно дышит: «Ах-ах!.. Ах-ах!»
Перепёлка упала за кочкой. Вон она там лежит, а старик уже в третий раз пробегает мимо неё.
Он не чует её и не видит.
Я украдкой достал перепёлку и подложил ему на пути. Так уж Райт не сможет её не заметить! И он правда сейчас же наткнулся на птицу и, роняя её от спешки, подал мне.
Долго Райт держал перепёлку в зубах. Он вилял, словно радовался, что сегодня я бью без промаха, не мажу позорно, как мазал когда-то, в первые наши охоты…
Славный, славный старик!..
Подбежал мой товарищ.
— Что? Ещё перепёлка? Вот это работа! Молодчинище Райт!
А я повесил ружьё на плечо и не стал больше стрелять. Мы в тот день просто долго бродили по плавням. Побывали на озере. Обошли все любимые наши места…
Это было в последний раз. Райт их больше уже не увидел.
-----------------------------------------------------------------------------
Примечания
1
Пойнтер — порога охотничьей собаки.
2
Прут — так называется голый мускулистый хвост пойнтера.
Франтик
- Просмотров: 1310
Франтик — Перовская

— Подождите, ребята, — сказала Соня, заглянув в грустные и сердитые глаза лисёнка. — Чем надоедать ему своими разговорами, покормили бы его лучше.
Лисёнок сидел, отвернувшись, в углу за кроватью; его блестящие глазёнки сверкали, как будто на них навёртывались слезы.
Он был совсем крошечный и, казалось, весь состоял из пушистого хвостика да пары остреньких, торчащих на макушке ушей.
Несколько часов назад лесной объездчик Федот Иванович подъехал к крыльцу кордона и позвал нас. Когда мы все прибежали, он распустил шнурок у коржунов и вынул из них маленький дрожащий комочек.
Нам показалось, что это был серый котёнок.
— Возьми его, Сонюшка, — сказал Федот Иванович, — отнеси в комнату и погляди, чтобы его не испугали: видишь, он дрожит.
Соня понесла лисёнка в комнату. Когда его поставили на пол, он, быстро перебирая лапками, убежал в угол, за кровать, и забился там как можно подальше.
А мы, видя, что он боится, сели полукругом на полу и начали шёпотом разговаривать.
— Ка-а-акой красивый! — прошептала Наташа, заглянув за кровать.
Она попробовала даже его погладить, но как только протянула руку, лисёнок затоптался на месте, завертелся и, выгнув угрожающе спину, разразился потешным отрывистым лаем: «ках, ках, ках!» Он как будто кашлял, и в горле у него что-то клокотало: «н-нгрррр…»
— А что лисицы едят? — спросила Наташа, заложив руки за спину. — Наверно, петухов, я так думаю?
— Н-нда, — солидно ответила Соня. — Но мы не можем зарезать для него цыплёнка. Ты сама же поднимешь вой, если зарезать твою Хохлатку или Бесхвостика. И потом, он совсем ещё маленький и должен пить молоко. Сбегай-ка в чулан и налей в блюдечко молока.
Наташа заскакала на одной ножке к чулану, а Соня взяла лисёнка на руки и уселась с ним на полу.
— Лиска, лисонька, славненький, хорошенький ты мой… — приговаривала она.
А лисёнок топорщился и отталкивался от неё ногами.
Соня уложила его на колени и осторожно поглаживала у него за ушком. Это, видно, понравилось, и лисёнок перестал топорщиться и ёрзать во все стороны.
Он исподлобья взглянул Соне в лицо, вгляделся как следует и, доверившись, прижался к ней пушистой головкой.
Когда Наташа вернулась, он и не подумал убежать от неё в свой угол, а только крепче забился под Сонин локоть.
Блюдечко с молоком поставили на пол, и Соня придвинула к нему мордочку лисёнка. Он потянул носом, соскочил с колен и завертелся вокруг блюдца, смешно крича: «ках, ках, ках!.. н-гррр…»
Потом стал над блюдечком, выгнул спину и загородил его от всех. Он с тревогой озирался на нас, как будто опасался, что мы можем вылакать у него молоко.
— Давай-ка отойдём в сторону, — предложила я, — а то он волнуется и не ест.
Все спрятались — кто на кровать, кто на печку. Около лисёнка осталась одна Соня.
Лисёнок ещё раз подозрительно покосился на неё и начал лакать из блюдечка. Язык у него был длинненький и острый, с каким-то замысловатым крючком на кончике. Лакал он аккуратно, как кошка, и торопливо, как щенок. Он, верно, порядочно проголодался, потому что теперь вся его рожица выражала блаженство, под усами зашевелилась улыбка, глаза сладко сощурились, а маленькие передние лапки в тёмных чулках дрожали от жадности.
Он был ростом с маленькую кошку. Ноги были довольно сильные, но туловище маленькое, щупленькое, поджарое и очень лёгкое. Шея тоже тонкая-тонкая и только благодаря пушистой шерсти казалась довольно круглой. Голова большая, с острым носом и торчащими вверх ушами. Весёлые, круглые, как пуговки, глазёнки и подвижной кончик носа, чёрный и мокрый. Шкурка серовато-жёлтая, с чуть тёмными подпалинами (тёмные лапки и кончики ушей); щёки, горло и живот были белые.
Окончив есть, лисёнок вынул из блюдечка кусок хлеба, облизал с него молоко, взял его в зубы и трусцой побежал к печурке, держа хвост на отлёте.
Он положил кусок на пол и внимательно обнюхал насыпанный возле печурки песок для чистки ножей. Песок ему не понравился; он забрал свой кусок и стал озабоченно путешествовать по всем закоулкам.
— Что это он разыскивает?
Мы свесили головы и с интересом следили за лисёнком. Обойдя все углы, он возвратился обратно к печурке и, с коркой в зубах, передними лапками стал быстро-быстро разрывать песок. Вырыв ямку, он положил в неё корку и аккуратно примял её носом. И потом носом же принялся сгребать весь песок и старательно его утрамбовывать, пока не засыпал своё сокровище. Сделав это, он вдруг повернулся и нагадил сверху на то место, где он зарыл еду.
— Ну, уж так нельзя! — громко сказала Соня.
Лисёнок вздрогнул от неожиданности, оглянулся, завертел хвостом и что-то залопотал. Он, верно, хотел объяснить, что у них, у лисиц, это так же принято делать, как у людей… ну, скажем, запирать еду в шкаф.
Мы хоть и не совсем поняли его объяснение, но всё-таки сказали:
— Ага! Ну ладно.
В это время послышались мамины шаги. Мы наскоро убрали за лисёнком, и она не узнала, что он уже успел провиниться.
К ужину лисёнок обнюхал и изучил все предметы, находившиеся в комнатах, и выспался на подстилке в своём уголке.
Пока он спал, Наташа сидела на сундуке у двери и с кнутиком в руке охраняла его покой. А теперь она держала лисёнка на коленях, вылавливала из тарелки кусочки варёного мяса и угощала его.
— Пусти-ка его на пол, — сказал отец, заметив её проделки. — Авось он и без тебя с голоду не подохнет. Ешь сама как следует!
За чаем мама достала из сахарницы кусок сахару и протянула его лисёнку. Лисёнок совсем повеселел. Он разгрыз сахар на много маленьких кусочков и потом не торопясь брал по одному кусочку и с наслаждением ел.
— Как его будут звать, дядя Федот? — спросили мы, окружив своего любимца-объездчика. — Вы привезли его — значит, вам и называть.
— Это вещь серьёзная, — шутливо отозвался Федот Иванович. — Его ведь не просто надо назвать, а как-нибудь позабористей. Вот что: у знакомого есть одна собака, остренькая такая, беленькая, и зовут её Джип. Давайте и нашего франта назовём Джип, а?
— Ну-у-у — зачем Джип? Что это ещё за Джип? — запротестовала Наташа. — Лучше пускай он будет Франт, ладно?
— Франт… Франтик… Гм-м, а ведь и в самом деле подходяще, — согласились остальные. — Ну хорошо, быть ему Франтом.
А Франт тем временем, обходя комнату, вдруг сделал интересное открытие: под лавкой около печки он наткнулся на корзинку с яйцами. Он поднялся на задние лапки и заглянул в корзину. Ого, сколько их там! Его немного озадачило: что может он, маленький лисёнок, сделать с такой массой яиц? Но потом он, должно быть, решил потрудиться, насколько хватит его слабых сил.
Не теряя даром времени, он достал из корзины яйцо и унёс его в другую комнату. Прыгнул там на низенькую кровать, разрыл лапками одеяло, затолкал яйцо под подушку, примял её и отправился за другим яйцом.
С этим он долго суетился по комнате, пока, наконец, не остановился на войлочной туфле. Обнюхав её, он аккуратно засунул яйцо подальше, в самый носок, и побежал за следующим.
Тут Федот Иванович оглянулся и увидел у него в зубах яйцо.
— Эге, Франтик, уж больно ты поворотливый! — воскликнул он и переставил корзину повыше, на скамью.
Пойманный врасплох Франтик попробовал было укрыться за сундук. Но когда туда заглянула Соня, он решил, что всё равно яйцо спрятать не удастся, прокусил в скорлупке дырочку, выпил его и облизал язычком губы.
Правда, и без этого он был вполне сыт, но не бросать же яйцо зря?
Франт совсем перестал дичиться, и мордочка у него стала весёлая и необыкновенно забавная. Глазёнки задорно блестели, а от сытного ужина брюшко надулось, как резиновый мяч.
Он свернулся клубочком на Сониных коленях и внимательно следил за бабочками и жучками, кружившими около лампы.
Поздно вечером, перед тем как идти спать, Франтика устроили на ночь в маленьком пустом чуланчике.
Приготовляя постели, мама нашла у Наташи под подушкой спрятанное Франтом яйцо.
— Ай да Наташа! — рассмеялась она. — Посмотрите-ка, яичко снесла.
Все засмеялись, а Наташа сконфузилась, начала оправдываться и заплакала. Тогда её перестали поддразнивать и сказали, что это сделал Франтик.
— Ну, вот видишь, мама, — с упрёком сказала она, — а ты на меня…
Всех так рассмешил этот случай, что на Франтика совсем забыли рассердиться. Но зато, когда отцу пришлось ночью надеть свои войлочные туфли, он очень на него рассердился: яйцо раздавилось и вымазало ногу и всю туфлю, и отец в сердцах обругал Франтика безобразным творением.
Первое время Франт жил в комнатах. Когда все уходили в сад или во двор — а это случалось очень часто, — лисёнку становилось скучно, и он робко пытался выйти на крыльцо.
С людьми он уже вполне освоился, и его смущали только собаки и козлёнок, которые частенько заглядывали в открытые двери комнат.
Как-то утром Франтик всё-таки пробрался на террасу и свернулся калачиком на полу, на ярком солнечном пятне.
Вдруг по ступенькам загремели копыта, и на веранду взбежал балованный козлёнок Степан.
Франт в ужасе вскочил и собирался удрать в комнату, но Стёпка загородил ему дорогу. Что тут делать? У Франтика все поджилки затряслись от страха.
Он плотно прилёг брюхом к полу и не сводил пристального взгляда с козлёнка. Степан тоже оглядел Франта, фыркнул и вдруг ринулся на него, нагнув рожки.
Хоть и не очень опасный зверь — шестинедельный козлёнок, но Франт перепугался отчаянно. Выбрав момент, он, как мышонок, шмыгнул мимо Стёпки в комнату и забился под кровать.
Степан запрыгал вслед за Франтом и сунул голову под свесившийся край покрывала.
Нет, уж тут, под кроватью-то, Франт чувствовал себя дома, в своей собственной норе. Это не то что на террасе! Он высунулся из-под покрывала и пронзительно затявкал: «ках! ках! ках!.. н-ннггррр…»
Степан опешил и попятился. Как только он сделал шаг назад, Франтик осмелел и двинулся на него, не переставая кричать. Он поднял к нему мордочку и сердито прижал уши к затылку. Теперь уже забияка Степан очутился в критическом положении.
В это время мы услыхали лай Франта и прибежали на помощь.
Стёпка сообразил, что совсем это не козлячье дело — травить лисят, вскочил на окошко, шаловливо кивнул головой вбежавшей Соне и выпрыгнул в сад.
А Франтик, ласково виляя хвостиком, побежал к нам.
— Бедняга, испугался как! Посмотрите, как у него сердце бьётся…
Франта погладили и дали ему в утешение кусок сахару.
После этого случая он долго не решался высунуть нос из комнаты и смотрел на нас из окошка.
Как только мы начинали играть в лапту, Франт усаживался на своём подоконнике и внимательно следил за всеми, сидя по-кошачьи, грациозно забросив пушистый хвост вокруг передних лапок.
Франтик всё больше и больше привязывался к своим хозяевам и становился совсем ручным. Ел он решительно всё: молоко, хлеб, яйца, сахар, варёные овощи, фрукты, варенье и траву.
У него был странный вкус: так, например, отведав варенья, он выкапывал откуда-нибудь из своих запасов кусок варёной требухи и с удовольствием закусывал ею.
Ел он помалу, но часто. Остатки еды никогда не бросал, а закапывал где-нибудь и припечатывал таким образом, как он это сделал первый раз с коркой хлеба.
Нельзя сказать, чтобы эта его привычка доставляла нам большое удовольствие: в самых неподходящих местах находились куски припрятанного мяса, косточки, огрызки сахара, и в комнате, где жил Франт, несмотря на открытые днём и ночью окна, установился какой-то острый, особенный запах лисицы. Собаки, заходя в комнаты, подозрительно вертели носами и делали стойку на Франта. А Франт с громким кашлем-лаем спасался куда-нибудь повыше.
Потом собаки привыкли к Франту и перестали его обижать. Но никогда они с ним сильно не сдружались.
Франт тоже никогда не делал попыток сблизиться с кем-либо из собак или кошек, и они как бы не замечали друг друга. А когда замечали, это всегда было невыгодно для Франта.
Вероятно, всё объяснялось тем, что охотничьи собаки никак не могли понять, почему эта «дичь» не прячется от них, не убегает, а, наоборот, так свободно вертится у них под носом.
— Фу, какое безобразие! — рассердилась мама, вытаскивая из моей шляпы кусок заплесневелого сыра, запрятанного туда Франтом. — Этот негодный лисёнок разведёт нам уйму мышей!
— Нет, мама, ты так не говори, — заступилась за Франта Соня. — Он правда, может быть, и разводит их немножко, но зато сам же их и ловит.
Это было действительно так, и мама не нашла, что ответить.
Франт очень любил ловить мышей. Бывало, он часами расхаживал по комнате, то и дело останавливаясь и нюхая щели в полу.
Он плотно прижимал нос к щёлке, озабоченно фыркал и крутил головой. Или так: идёт тихонько по комнате, вдруг насторожит уши, смотрит, смотрит в одну точку на полу, да как подскочит всеми четырьмя лапками! Значит, в этот момент под полом пробегала мышь.
Однажды Франту удалось поймать мышонка. Тото он был счастлив и горд!
Он долго, как кошка, носил его в зубах и играл с ним, подкидывая его лапой. Но кончилось это удовольствие большим огорчением для Франта. В самый разгар игры, когда Франтик, оставив полуживую мышь посреди комнаты, отбежал в сторону и, прижавшись к полу, следил за ней горящими глазами, откуда-то со шкафа спрыгнула кошка, схватила мышь в зубы — и была такова.
Франт заметался по комнате, но ничего не мог поделать.
— Вот видишь, Франтик, — назидательно заметила Наташа: — зачем не съел её сразу? Помучить хотел? Ну, а теперь мучайся сам.
Прошло около месяца. Несмотря на ловлю мышей и милый, неунывающий характер, Франтик, живя в комнате, причинял так много неприятностей, что его решили переселить во двор. Однажды утром мама закрыла дверь в комнату и, распахнув чуланчик, пригласила Франтика выйти во двор. Он вышел на крыльцо, а сойти вниз, на землю, ни за что не хотел и выжидательно поглядывал на закрытую дверь.
— Иди же, иди, трусишка!
Соня сняла его с крыльца и поставила на землю.
Франт растерялся. Он убежал под крыльцо и решил там спасаться.
На беду, в это время один наш петух разыскал возле крыльца какие-то зёрна. Он заботливо стал разрывать ногами песок и шумно заорал, сзывая кур. Тут уж Франтик забыл все свои страхи, сделал прыжок, схватил в зубы петуха, задушил его и торопливо потащил в угол двора. Воровато оглядываясь по сторонам, он вырыл ямку, затолкал в неё добычу и кое-как засыпал сверху навозом.
Франт воображал, что петух спрятан очень хорошо, но на самом деле он весь был виден из-под тонкого слоя земли, и ноги у него беспомощно торчали вверх.
Наташа подметала двор и наткнулась на эти ноги. Она вытащила несчастную жертву. Оказалось, что это был её любимец — Бесхвостик.
— Ах ты, дрянь! — горестно воскликнула Наташа, положив перед носом у Франта петуха. — Ведь ты совсем не хотел есть и всё-таки задушил Бесхвостика!
— Это он чтобы тебе досадить, — подшутил отец и серьёзно прибавил: — Придётся, видно, посадить этого разбойника на цепь.
Мы раньше всячески защищали Франтика, а теперь молчали.
И в тот же день его посадили на цепочку.
За угол конюшни, под самой крышей, зацепили один конец толстой проволоки, протянули её через весь двор и другой конец прикрепили к столбику террасы.
На эту проволоку надели блок, к которому была пристёгнута длинная лёгкая цепочка. Блок с цепочкой свободно скользил по проволоке, и таким образом Франт не терпел почти никакой неволи. Он мог свободно бегать по двору из одного конца в другой.
В первые дни Франт избегал долго оставаться на земле: боялся собак.
Около конюшни была сложена поленница дров, и Франт устроил там свою квартиру. Здесь он спал, свернувшись клубочком, прятал между дровами еду и, сидя или лёжа на самом высоком конце поленницы, наблюдал за людьми и животными, которые суетились во дворе.
Франт вообще любил забираться повыше. Часто, когда на террасе пили чай или обедали, ему кричали:
— Франт! Франтик!..
Он мчался к крыльцу, ловко, как акробат, влезал по уступам террасы на перила и всегда получал в награду что-нибудь вкусное.
Однажды Наташа вышла во двор поделиться с Франтом полученной только что конфетой. Смотрит, а Франта нет. Что такое? Куда он девался?
На проволоке не видно ни блока, ни цепочки.
— Франт пропал! Идите скорей!
Все сейчас же сбежались. В самом деле, как это могло случиться, что проволока цела, а блока с цепочкой нет? Отец стал осматривать проволоку, проследил её до крыши конюшни и видит: в самом углу блок, и под крышей вдоль стены тянется цепочка.
— Здесь он, нашёлся! — крикнул отец. — Только куда же он мог взобраться? — И отец с удивлением повёл глазами по цепочке.
Она шла на чердак конюшни, где был устроен сеновал. Внизу к сеновалу была приставлена лестница. Отец полез и заглянул в дверь сеновала.
— Здравствуйте! Вот он и сидит… Ах ты, чучело! — расхохотался отец. — Нет, поглядите только, как он важно расселся!
Франт с уморительно важным видом сидел напротив входа высоко на сене и любовался оттуда окрестностями кордона.
Увидев голову и плечи отца, Франт улыбнулся, вильнул хвостом, спрыгнул с сена и полез к нему на плечо. Отец спустился с ним на землю и комично представил его публике:
— Рекомендую: юный натуралист и любитель природы!
Франт сконфузился и убежал на свои дрова.
На сеновале, вдоль стенки, у нас стояло пять низких фанерных ящиков. В них были устроены гнёзда, и там летом неслись куры. Каждый день, часов в двенадцать, мы с Наташей лазили туда и собирали яйца.
Куры почти все неслись. В несушках всегда находилось по три-четыре яйца в каждой. Мама сказала: как наберём две сотни, так она сделает нам подарок — мне книжку, а Наташе куклу.
У нас была уже сотня с лишком, когда куры вдруг стали нестись день ото дня всё хуже и хуже. В несушках мы начали находить по три, по два, по одному яйцу, а потом и вовсе ничего.
Что случилось с курами? Плохо кормят их, что ли? Попробовали лучше кормить — никакого толку. Может, наоборот, они чересчур разжирели? От этого иной раз тоже куры бросают нестись. Стали кормить меньше — опять ничего не вышло.
Мы с Наташей совсем забросили наши игры, всех других животных и зверей. Каждую курицу мы чуть не на руках носили, а до двух сотен ещё было далеко, как до звёзд.
Как-то рано утром мы услышали на сеновале беспокойное кудахтанье.
Наташа схватила меня за руку и, хотя мы были от сеновала шагов за сто, шёпотом сказала:
— Снеслась. Это моя Пеструшка.
— Нет, рыженькая. Ты что, разве по голосу не слышишь?
— Вот я и говорю: по голосу — Пеструшка.
— Давай посмотрим.
Мы полезли на сеновал и, чтобы не спугнуть курицу, долго крались, затаив дыхание, к несушкам. Наконец Наташа одними губами шепнула:
— Сидит.
— Рыженькая? — спросила я.
— Не знаю, тут плохо видно.
Она с большим трудом, на животе, подползла ещё немного.
— Кажется, Пеструшка… Нет, рыж…
Вдруг она встала во весь рост и сказала со злобой:
— Ах ты, негодный! Дрянь ты этакая! Я вот тебе…
Зазвенела цепочка. Я увидела, как из несушки выскочил и прошмыгнул мимо нас Франтик.
Так вот отчего мы перестали находить яйца! Оказывается, милый Франтик собирал их за нас.
Но неужели же он все эти пропавшие яйца съел? Может, припрятал их где-нибудь? На всякий случай мы стали искать. И очень скоро я наткнулась на кучу яиц. В ней было тринадцать штук. Это хранилище было довольно хорошо прикрыто сеном. Не поймай мы Франта на месте преступления, яйца, конечно, пропали бы: их сбросили бы вниз с сеном или раздавили.
Немножко подальше нашлась вторая куча, а еще дальше, в углу, — третья. Всего нашлось двадцать яиц. Ничего себе, неплохой запасец для одного маленького лисёнка!
В тот же день вечером над Франтиком был суд. Решили укоротить цепочку так, чтобы он мог влезать только на поленницу и на веранду.
Но, даже сидя на такой короткой цепи, Франт умудрялся наносить большой ущерб куриному хозяйству.
Проделывал он это необыкновенно хитро.
Бывало, принесут ему кашу — он возьмёт рассыплет её носом около чашки, отойдёт в сторону, растянется на боку и закроет глаза: устал, дескать, до смерти.
Петух увидит рассыпанную кашу, подбежит к чашке и удивляется: «ого-о-о-о!»
Франт спит изо всех сил, и слышно даже, как он похрапывает. Тогда петух приглашает кур. Сбегается суетливая стая, и начинается делёж.
Франт открывает один глаз… Прыг! — и курица бьётся у него в зубах, а вся стая с шумом разлетается прочь.
Франт прекрасно понимал, что курицу надо поскорее прятать. Зарывать было долго, да и собаки не давали, и потому он тащил её на поленницу и спускал в свою кладовую, между рядами дров.
Сбросить курицу вниз Франту было легко, а вот достать её оттуда он уже никак не мог, так как щель между дровами была узкая и глубокая. Но это ничуть не огорчало рыжего разбойника: он был всегда сыт и ловил кур не для еды, а просто из любви к искусству.
Дни стояли жаркие, и скоро Франтовы запасы стали удушливо пахнуть.
— Что это за ароматы? — удивлялся отец, морща нос. — Дышать нечем, просто невозможно по двору пройти. По-моему, у Франта завёлся какой-то «секрет моей бабушки».
И вот однажды Соня взглянула за дрова и обнаружила там склад куриных трупов.
Нет, это было уж слишком!
Франта сильно отхлестали прутиком, разложив куриные останки перед его носом.
— Как тебе только не стыдно смотреть мне в глаза?! — кричала на него разъярившаяся Наташа.
А Франт, забираясь с обиженным видом на поленницу, злобно озирался и вопил: «ках! ках! н-нгррррр…»
Такого подвижного и юркого зверя, как Франтик, у нас ещё не было. Он положительно минуты не мог высидеть спокойно. Если он не спал и не был занят обдумыванием какой-нибудь каверзы, то непременно суетился, бегал своим курц-галопом от крыльца к сеновалу или карабкался на кирпичи у крыльца, на перила.
Франт не на шутку увлекался своими складами, хотя это накопление доставляло ему много неприятностей и волнений.
Собаки скоро применились к привычке Франта прятать еду, и, в то время как он всё более ухищрялся в припрятывании запасов, они научались всё лучше их отыскивать.
И в этом они оказались гораздо сообразительнее лисицы.
Франт почему-то считал, что прятать можно только или спуская еду за дрова, или закапывая за конюшней в навозной куче. Все другие места он считал неподходящими.
Для того чтобы собаки не трогали припрятанного, он пропитывал его своим острым запахом. Но эта уловка не помогала: собаки только быстрее находили ароматные кладовые Франтика. Они скоро привыкли к его запаху и перестали считать его противным.
Франт был легкомысленный малый, а кормили его всегда досыта, и потому о половине спрятанной пищи он тотчас же забывал. Но одно-два места он обычно помнил и очень огорчался, если, долго пыхтя, отодвигал носом тяжёлое полено и под ним вдруг не оказывалось огрызка колбасы или требухи.
Злой и возмущённый Франт трусил к крыльцу, волоча хвост между задними ногами, забирался на перила и долго ворчал, прижав к затылку уши: «нн-грррррр…» И прищёлкивал языком: утащили, мол, обижают меня, бедного.
Франт не отличался чистоплотностью. Валялся часто в пыли и на мусоре, и в шкурке у него запутывались бумажки, стружки, разноцветные лоскуты — словом, он так «разукрашивался», что мы называли его ёлкой.
— Посмотрите-ка: Франт опять ёлка.
Все попытки Сони причесать и пригладить этого неряху ни к чему не приводили. Только, бывало, она повытаскивает у него из шерсти все верёвочки и лоскутики и причешет его, а он, глядишь, через час выкатался в пыли, слазил на сеновал и нацепил там репьёв на хвост, поиграл на мусорной куче и опять разукрасился ещё лучше прежнего.
Играл Франт всегда один или с Наташей. Они бегали друг за дружкой, прыгали и прятались. Франт забежит за бревно, нагнёт пониже голову и выглядывает. Хотя при этом весь он был виден, ему всё-таки, наверно, казалось, что он замечательно спрятался.
Франт очень любил всё сладкое. Мы, не слушаясь мамы, постоянно таскали для него сахар. Чтобы быть невинными, если она спросит, откуда у Франта сахар, мы выдрессировали его так, что он сам становился на задние лапки, засовывал мордочку в карман и доставал оттуда угощение.
Сунем, бывало, кусок сахару в карман и медленно идём через двор. Франт, сообразив, в чём дело, моментально подбегает, достаёт сахар и удирает во все лопатки.
— Как вы смели давать опять Франтику сахар? — кричит на ослушников мама.
— Да никто ему не давал ничего, он сам вытащил из кармана. Я взяла для себя, мне самой обидно.
Что тут прикажешь делать? Сахар из сахарницы пропадает, а виноватых нет.
Франт так привык шарить у нас по карманам, что никого не пропускал без обыска.
Как-то раз он сидел на своих дровах и скучал. Вдруг у калитки загремело кольцо, и во дворе появилось двое людей: женщина в кисейном платьице и мужчина в брезентовом плаще с огромными карманами.
Франтик сейчас же перестал зевать и деловито спустился с поленницы. Позвякивая цепочкой и не сводя глаз с брезентовых карманов, он побежал к посетителям.
— Смотрите, смотрите, Виктор Васильевич! — закричала женщина, отступая к калитке. — Вцепится в ногу, так будете знать.
— Жучка, Барбосик, ты нас не укусишь? — храбро спросил Франтика мужчина.
Нет, «Барбосик» не собирался кусать. Ему только хотелось заглянуть в карманы. Не может быть, чтобы в таких больших карманах не оказалось никакой поживы.
— Ну что он так смотрит?.. Да это и не собака, по-моему. Осторожней, Виктор Васильевич, это, наверно, какой-нибудь зверь.
Летом Франтик сильно линял. Мочалистая шерсть лохмотьями сбивалась на его боках. Хвост становился общипанным и тонким, как палка. И весь он был, как крючок, согнутый и поджарый. Глядя на такого урода, люди никак не могли решить: страшный он зверь или не страшный?
Впрочем, Франт живо сам решил все вопросы. Как только гость отвернулся на минутку к женщине, Франт подскочил и сунул голову в его карман. Ну, так и есть! Там лежал леденец. Франт бросился с ним на крыльцо, сел на верхней ступеньке и стал грызть, приговаривая тонким голоском: «ках, ках, н-нннгрррр…»
Тут только гость сообразил, что это страшное существо его ограбило, и захохотал:
— Вот жулик! А я понять не могу: что ему от меня надо?
— Как он набросился! Я думал, он вам полбока откусит, а ему… леденец… Ха-ха-ха!..
— Вот так воришка!
— И хитрый какой, сообразил ведь…
Отец выбежал на крыльцо и ничего не мог понять. Гости хохотали, а Франт глодал что-то и урчал.
Отец догадался:
— Это всё ребятишки мои балуются. Научили лисёнка всяким фокусам. Вы уж не обижайтесь, пожалуйста. Ведь экая бестолковая тварь! Лезет, не разбирая, ко всем в карманы…
А гости и не думали обижаться: они, наоборот, восхищались лисёнком.
Отец рассказал им и про другие проделки Франтика, и гости не переставали ему удивляться. Через четверть часа нам казалось, что этих славных людей мы знаем уже много лет. Это были двое молодых учителей из лесной школы-колонии.
Мама предложила им выпить чайку. Мы с Соней мигом поставили самовар. Юля притащила на веранду чашки и стулья.
Гости стали пить чай, не переставая хвалить Франтика:
— Ну какая же прелесть! А давно он у вас? Хлопот всё-таки от него в хозяйстве порядочно. Знаете что: отдайте его нам в школу. Он у нас будет как сыр в масле кататься. А мы вам за него породистого охотничьего щенка подарим. Хорошо?
Отец заколебался. Но не тут-то было: Наташа сидела на ступеньках и слышала всё.
— Франтик, во-первых, мой, — сказала она сварливым басом. — Когда я разбила нос, мама сказала, что Франтик будет мой. А я не желаю, чтобы его отдавали за какого-то паршивого щенка.
Учителя улыбнулись её взъерошенному, боевому виду.
— Можете им подавиться, своим щенком! — воинственно прибавила Наташа.
— Наталья! Ступай вон отсюда! Совсем одичала девчонка. Сладу с ней нет. Не лучше своего Франта.
Наташа гордо спустилась с крыльца, взяла Франта, залезла с ним на сеновал и тут только, вытирая упрямые слезинки, стала рассказывать ему о том, как низко хотели с ним поступить. Франт выслушал, но ничуть не огорчился и, улучив минутку, сунул нос к ней в кармашек.
Пока Наташа изливала Франту свои обиды на сеновале, на крыльце, можно сказать, решалась судьба их обоих.
Молодые учителя расхваливали свою лесную школу. Эту маленькую лесную колонию устроили недалеко от кордона для детей, у которых было слабое здоровье. Им необходимо было пожить на чистом горном воздухе, среди душистых ёлок.
— Вы посмотрели бы, какие они приехали сюда дохленькие и бледные! А теперь их просто не узнать. Едят они так, что никаких запасов не хватает, и только кричат, чтобы давали побольше. Лазают по горам, купаются в речке и загорели, как настоящие индейцы.
— Где же вы разместились с такой компанией?
— А у второго спуска. Под горкой. Там, где были раньше пчеловодные курсы.
— Вон где! Так ведь это совсем рядом с нами!
— Ну да.
Отец и мама сразу подумали об одном и том же:
— Вот если бы…
Учительница поняла:
— Устроить к нам ваших девочек, да? Отчего же… Я думаю, Виктор Васильевич, это можно было бы сделать.
— Пожалуйста, Виктор Васильевич. Две старшие у меня учатся в городе, а младших мне очень хотелось бы устроить поближе к дому.
— Наша школа им очень понравится. Народ у нас вольный. У ребят есть сад, огородик, много всяких зверюшек. Один мальчик обещал привезти из дома свою ручную лисицу, и наш воспитатель поехал с ним вместе, чтобы ему помочь в дороге. А ваши девчурки могли бы захватить с собой Франтика.
— Да я уж вижу, — сказала обрадованно мама, — у вас они отлично устроились бы!
— С животными мы с Наташей всё умеем — кормить, убирать, — робко вмешалась из-за маминого плеча Юля. Она и Наташа давно мечтали о школе.
— А это которая — Наташа? — спросил Виктор Васильевич. — Не та, что предлагала мне подавиться щенком?
— Она ошиблась… — кашляя от волнения, пояснила Юля, — она ошиблась и просто напутала.
Старшие принялись обсуждать, как получше уладить это дело, а Юля на цыпочках вышла из-за маминого стула, выбежала во двор и, всё ещё кашляя, сдавленно закричала:
— Наташа!
— Что? — мрачно ответили ей с сеновала.
Юля вскарабкалась наверх и стала рассказывать. Через полчаса две девочки спустились на землю и, держа на руках вертлявого лиса, пришли на крыльцо.
Там весело разговаривали родители.
— Где учители? — спросила Юля.
— Они уже ушли к себе в школу… Ну, Наташа, отличилась же ты сегодня, нечего сказать! Нам за тебя было просто стыдно.
На следующий день отец запряг Гнедка в дрожки. Мама надела на Юлю и Наташу белые шляпки, и все поехали в школу. Наташа всю дорогу сидела тревожная и молчаливая. Она боялась, что учитель не захочет принять её в школу за то, что она вчера ему нагрубила. Ещё примут одну только Юлю — что ей тогда делать? В школе много детей, все будут учиться, играть, а она…
Наташа ещё пуще сутулилась и грустила.
Вот уже дрожки спустились с горы. Гнедко резво бежал по мягкой и гладкой дороге. Поднялись ещё на одну горку и внизу, под горой, среди рощи, увидели белые домики.
— Какое хорошее местечко! — сказала мама.
— Мама, — разжала вдруг губы Наташа, — я вчера вовсе не так думала сказать, а у меня только неправильно получилось. Я хотела сказать, что щенок у них очень маленький и может подавиться, потому что у нас всюду кости валяются.
Все засмеялись:
— Ладно уж! Не выдумывай теперь никаких объяснений. Не такой человек Виктор Васильевич, чтобы сводить счёты с глупой девочкой. Не мучайся тем, что уже брякнула, но вперёд думай, прежде чем сказать грубость.
Дрожки свернули к новой деревянной ограде, которая кольцом окружала сад и два дома в глубине аллеи. На воротах была дощечка: «Лесная школа».
Родители с улыбкой оглянулись на взволнованную Наташу.
Они вошли в калитку и поднялись на крыльцо дома. Девочки молча сидели на дрожках, ожидая решения.
Ждать пришлось недолго. Во дворе раздались голоса. Отец вышел и направился к калитке. За ним шёл вчерашний гость.
Наташа густо, до слёз, покраснела и отвернулась: конечно, учитель всё помнит и непременно отомстит ей за вчерашнее.
— Ну, здравствуйте, девочки! — ласково сказал учитель и широко распахнул ворота. — Въезжайте-ка во двор. Пока мы будем разговаривать, вы пойдите познакомьтесь с ребятами. Они вам покажут школу. Идёт?
Смущённая ласковым тоном учителя, Наташа молча рыла босой ногой ямку в песке.
— Коля, Маша! — подозвал учитель двух румяных ребят чуть постарше Юли. — Вот познакомьтесь-ка с Юлей и Наташей и покажите им нашу школу и животных.
И он вместе с отцом опять скрылся в доме.
— Что же показывать сначала, — сказал Коля: — огород, классы или животных?
— Сперва классы, — попросили девочки.
— Ну, пойдёмте.
Что это были за прекрасные классы! Две большие, светлые комнаты с партами и чёрными досками, со шкафами для книг, сплошь увешанные картинами, таблицами и картами.
Наташа вздохнула, и так громко, что кошка, спавшая на подоконнике, проснулась и испуганно выскочила во двор.
Потом ребята провели их на кухню. Там дежурные школьники дружно работали и распевали.
То же было и на огороде.
Потом показали конюшню, корову, кур и индюшат. В саду, в просторных вольерах из проволочной сетки, чирикали и порхали разнообразные птички. Дальше, в углу сада, в больших загородках из досок и проволочной сетки, играло весёлое семейство ручных кроликов.
— А эта загородка знаешь для кого? — спросил Наташу один из новых товарищей. — К нам скоро лисичка приедет, так это мы для неё приготовили.
Место было очень удобное. Большая полянка, как раз на склоне холма, огороженная проволочной сеткой. С наружной стороны сетки и внутри огороженного четырёхугольника росли ветвистые деревья и кустарники, так что сетки совсем как будто и не было.
— Ей тут будет хорошо, — одобрила Юля и невольно подумала: «А что, если бы и Франта сюда?»
Наташа тоже подумала об этом, потому что сама громко сказала:
— У меня дома тоже есть лис.
— Ну-у? Да что ты! Ручной?
— Со-овсем ручной. Хотите, приходите к нам на кордон — это здесь по дороге, выше по ущелью, — мы вам покажем его. Наш Франтик такой весёлый и славный. Он вам понравится, вот увидите.
У девочек немного отлегло от сердца. Хоть и очень счастливые это были ребята, а Франта у них всё-таки не было.
— Потом у нас есть ещё Мишка — олень. Только он очень драчливый.
Им тоже хотелось показать Коле и Маше своих зверей.
— Приходите непременно! Когда хотите приходите и можете играть с Франтиком сколько угодно.
— Спасибо, придём… А вы что же, у нас учиться будете?
— Ох, не знаем, примут ли только…
Девочки вернулись домой как в чаду. В школе сказали, что сейчас их примут только приходящими, но, когда наступят морозы и ходить каждый день в школу будет трудно, они будут жить вместе со всеми.
Начались ежедневные прогулки девочек в школу, а их новых товарищей — на кордон.
Ребятам очень нравился Франт. Они все так его баловали, что Франт вообразил себя в самом деле важной особой и ни за что ни на минутку не желал оставаться без компании.
В сентябре я и Соня уехали в город, а Юля и Наташа, сияющие и довольные, отправились в школу, окружённые толпой весёлых товарищей. Уходя, они дружно запели только что выученную песню:
Смело, товарищи, в ногу…
Звонкие, здоровые голоса заливались по дороге, и в такт им звякала цепочка, на которой вели Франтика.
Мама стояла на крыльце и грустно улыбалась:
— Наташа, Наташка-то!.. Франтик — и тот оглядывается на дом, а она уже с головой и с ногами в своей школе. И родителей уже забыли — оглянуться на мать не желают.
Это было неверно. Перед тем как скрыться за поворотом, вся компания остановилась, подняла на руки Франта и, замахав шапками, весело попрощалась с мамой.
«До свиданья, детки, до свиданья», — смущённо проговорила сама себе мама.
Кордон опустел.
После обеда Франт храпел, свернувшись на бочке. Посередине огороженного питомника положили большую бочку без крышки и без дна. С обеих сторон к ней приделали крытые галерейки из широких деревянных желобов. Получилась любимая лисья нора с двумя выходами.
В дождливую погоду Франт располагался внутри норы. А сегодня было ясно, и потому он устроился на «крыше». Этим утром к Франту пустили подругу — лисицу Лизу. Лиза была очень милая, весёлая и совершенно ручная.
Встретились лисицы довольно холодно.
Франт подбежал, обнюхал Лизу и, не обращая больше на неё внимания, стал рыться в карманах у ребят.
Лиза тоже сначала как будто отшатнулась от Франта, но, когда он отошёл, она пошла за ним, как привязанная.
Сейчас Франт спал на бочке, а Лиза сидела внизу, опершись о бочку спиной. Она задумчиво почёсывала задней лапкой за ухом и изредка становилась на цыпочки и обнюхивала Франта.
Ребята были разочарованы. Они ожидали, что лисицы запрыгают от радости при виде друг друга, а тут — на тебе…
— Ничего, ничего, это они фасон выдерживают, — обнадёживал их Виктор Васильевич.
И правда, прошло три-четыре дня, и Франт с Лизой играли, прыгали и барахтались, как будто родились вместе.
Самым большим удовольствием для ребятишек было, спрятавшись за деревьями, следить за их игрой.
К зиме лисицы оделись в красивые пушистые шубы. Здоровые и весёлые, они так интересно играли друг с дружкой, что приятно было на них смотреть. В начале ноября выпал снег и настали холода. В домах запылали печки, и дым из труб поднимался над запушённым снегом садом.
После Нового года Виктор Васильевич сказал:
— Вот что, ребята: давайте-ка построим из досок ещё одну загородку вокруг сетки, а то деревья стали голые и не загораживают Франта и Лизу от ветра, да и от нас самих.
— А зачем их загораживать от нас, Виктор Васильевич?
— Затем, что, если теперь их не тревожить, у них весной будут лисята.
— Ну, давайте тогда, давайте!
Соорудили три лёгкие стены из фанеры и стали ждать прибавления семейства.
Лисицы возились и шумели ночами, и Франт часто лаял своим забавным тонким голосом. Потом Франт перестал совсем обращать внимание на Лизу, а у Лизы стали заметно расти бока.
— Будут лисята?
— Наверно, будут.
Ребятишки баловали и угощали Лизу всякими вкусными вещами и поглядывали на неё с надеждой:
— Ну, смотри, Лизонька, не осрамись!
Старшие рассказывали им вечерами, что лисицы-матери, когда у них рождаются дети, становятся очень беспокойными.
В первые дни лисят нельзя трогать, даже смотреть на них нельзя, а то лисица начинает беспокоиться, прятать их, закапывать и часто замучивает до смерти.
— Смотрите же, ребята, не входите за загородку, пока я не скажу, что можно… У лисят откроются глаза приблизительно недели через три, и через месяц они сами повылазят из норы и будут играть на солнышке, — говорил нам Виктор Васильевич.
Прошёл март. В половине апреля у Лизы родились лисята.
— Только не подходите, не пугайте их, — упрашивали всех Юля и Наташа.
Но ребята всё-таки не удержались.
Один раз самая маленькая девочка открыла люк сбоку бочки и «только заглянула». И сразу испортила всё дело.
Лиза всю ночь бегала, суетилась, таскала в зубах то одного, то другого детёныша. Она запихивала их под корни деревьев и закапывала в холодную, мокрую ещё землю.
Утром Юля увидела, что она закопала, откопала и снова закопала в другом месте маленького пищащего лисёнка. Она побежала к учителю:
— Виктор Васильевич, скорей!.. Лиза закапывает лисёнка!
Полуживого малыша забрали у чересчур заботливой мамаши. Остальных трёх лисят нашли уже мёртвыми. Стали спасать последнего лисёнка и наперебой ругали лисицу:
— Дрянь эта Лиза, живодёрка такая!
— Нет, это не Лиза виновата, — сказал Виктор Васильевич. — Это, значит, кто-нибудь из вас или трогал лисят, или смотрел на них. Иначе Лиза не стала бы их прятать.
Он наклонился над закутанным в вату, дрожащим слепым лисёнком.
— Виктор Васильевич, а этот хоть отогреется?
— Не знаю… может быть, и отогреется, но всё равно, если положить его к Лизе, она его затаскает. Я читал, что можно положить лисёнка к кошке, и она выкормит его. Но где взять кошку с котятами?
Услышав это, Юля и Наташа наскоро оделись и помчались вниз по горе на соседнюю дачу. Вчера, по просьбе Виктора Васильевича, они относили газеты старику-сторожу и любовались у него кошкой с тремя маленькими котятами.
Они долго и горячо упрашивали сторожа.
— …и потом, иначе ему пропадать, — закончили они свою просьбу.
— Видите что, детки: кошка ведь старая, и она ни за что не станет жить на новом месте. Она всё равно убежит домой и котят перетаскает обратно: по дороге их только заморозит. Лучше уж принесите к нам вашего лисёнка, и пусть он сосёт кошку, пока не сможет лакать молоко из блюдца.
Так и сделали: отнесли лисёнка к приёмной матери. Кошка приняла его в семью без лишних разговоров.
Оставшись без детей, Лиза заметалась по питомнику, перестала есть и загрустила. Все сначала было забросили её за плохое поведение, но теперь пожалели и стали ласкать пуще прежнего. И счастливый же характер у этих животных! Прошло дней пять, и Лиза играла так весело и беззаботно, как будто ничего не случилось. Лисёнок рос и прекрасно себя чувствовал в своих лисьих яслях — так в шутку называли кошкино семейство.
Кто посмотрел без разрешения лисят и был виновником несчастья, учителя не допытывались. Они прекрасно знали, что и без всякого наказания никто из ребят больше никогда так не сделает. Однажды, когда ребята отдыхали от работы, зашёл разговор о том, кто кем будет, когда вырастет большой.
— Я буду ветеринаром, — сказала маленькая девочка и вдруг расплакалась. — Если бы я была ветеринаром, я бы обязательно вылечила замёрзших лисенят. Это ведь я посмотрела тогда…
Учителя переглянулись:
— Ну, будет, не плачь, Маня! Ты же не знала, что это так кончится. Вот погоди, будешь ветеринаром — ты за этих лисят сколько добра сделаешь животным!
Они стали её утешать и, чтобы перевести разговор, обратились к Наташе и Юле:
— Ну, а вы кем будете, девочки?
— Мы будем учиться, как лучше разводить и оберегать леса, — разом отвечали обе девочки. — Пока будут целы наши густые, дремучие леса, будут в них привольно жить и разводиться звери. Лес — первый друг и зверю и человеку: так у нас всегда говорят дома.
— Верно, дружочки, это вы хорошо придумали! Вырастете — будете лесоводами, помогать будете отцу. И смотрите никогда не забывайте, что весной у всех зверей есть маленькие, беззащитные детёныши!
— Будьте покойны, Виктор Васильевич, мы никогда не забудем об этом.
Чубарый
- Просмотров: 3667
Чубарый — Перовская
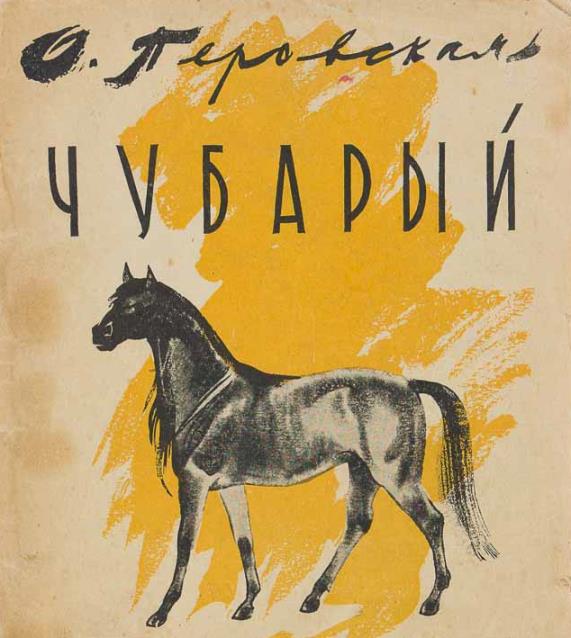
Не видать бы нам Чубарого как своих ушей, если бы не случилось с ним беды на перевале. Это был первоклассный конь — разве отдали бы его так просто нам, ребятам?
В первый раз его привели зимой. Все взрослые вместе с отцом ходили на конюшню, спорили о чём-то, мерили его сантиметром.
— Красавец! Не конь, а картинка! — с удовольствием говорили они, возвращаясь в тёплую комнату, румяные и озябшие.
Мы тоже пошли посмотреть.
Высокий гладкий жеребец плясал на снегу у столба, тёрся об него головой, грыз его зубами и всё время переступал с ноги на ногу. Внутри у него что-то похрустывало и переливалось.
Мы подошли ближе. Он ещё пуще заиграл, забрыкался и покосился на нас тёмным глазом.
— Ничего себе конишка, — солидно сказала Соня. — Одно плохо — хрустит очень и дёргается так, что и погладить его невозможно. Ба-а-луй! — закричала она басом и смело шагнула к столбу.
Лошадь тоненько заржала, ухватила Соню за капор и дёрнула направо и налево.
— Убивают Шоню! — ахнула около меня Наташа.
Мы с Юлей закричали и замахнулись на Чубарого. Он удивился и выпустил капор. Соня попятилась.
— Сумасшедшая лошадь! Её в сумасшедший дом надо, — сказала она горько, — хватается прямо за чужую голову.
Лицо у неё стало белое. Отморозила, может быть, а может, от обиды — обиделась на Чубарого.
Летом, когда отец проносился по улицам на Чубарке, все выбегали за ворота и смотрели вслед. Собаки пролезали в подворотни и, напрягая мускулы, поспевали наперерез. Ни одной из них не удалось ещё вцепиться в Чубаркин хвост. Они отставали одна от другой, захлёбываясь от ярости.
А из лошадей никто и не пробовал состязаться с Чубарым. Это было бы просто смешно. Вы посмотрели бы, как он, нигде не замедляя хода, духом пролетал двенадцать километров от города до нашего посёлка на озере Иссык-Куль!
Там перед домом, где мы жили, была зелёная лужайка. Чубарый огибал круг, останавливался у крыльца и, вытягивая шею, громко, продолжительно фыркал. А после этого дышал совершенно спокойно. Мы выносили ему кусок хлеба или сахару. Чубарый осторожно забирал губами угощенье, и не было случая, чтобы он прикусил кому-нибудь руку.
— Нет, вы посмотрите! Вы только посмотрите, как он дышит! — гордился Чубаркой отец. — Ведь это какие лёгкие надо иметь! А?
Все просовывали пальцы за подпругу и говорили: «Да, действительно замечательно дышит».
Вот какой он был, наш Чубарка, когда однажды, в середине лета, отец снарядил его по-походному и уехал на нём через горы на областной съезд лесничих в город Верный, как тогда назывался наш теперешний город Алма-Ата.
Прошло около месяца. Отец всё ещё был в отъезде. Раз ночью меня разбудила гроза. Ветер и дождь стучали в окно. Над крышей трещали громовые раскаты, и вся комната разом освещалась молнией. Я только хотела спросить, не может ли она убить кого-нибудь прямо в кровати, как вдруг наступило затишье и за дверью послышался отцовский голос. Мы все очень обрадовались, завернулись в одеяла и вышли в соседнюю комнату. На полу валялось мокрое платье, на столе стоял самовар, и отец, переодетый в сухое, грелся горячим чаем.
— Какой ты красный, — сказали мы ему, едва успев с ним поздороваться. — Загорел так сильно, что ли?
— Загоришь тут, в такой передряге!
— Обещание своё не забыл — привёз нам конфет?
— Нет, не привёз.
— Почему?
— Не привёз, да и всё тут!
— Ну, может быть, какие-нибудь другие подарки?
— Нет, и другого ничего не привёз.
Мы переглянулись:
— Как же так? Сам обещал, а сам…
Отец схватился за виски. Он как-то морщился, ёжился, как будто замерзал.
— Убери ты их, пожалуйста! — сказал он матери. — У меня голова раскалывается от боли, а тут изволь оправдываться, объяснять…
— Он ничего не забыл, всё купил и привёз бы, конечно, но… в горах приключилось несчастье. Идите теперь, идите, не надоедайте. Хорошо, что хоть сам он вернулся живой и здоровый.
Нас вытолкали и захлопнули за нами дверь. Мы ровно ничего не понимали.
— Какое же несчастье может случиться с конфетами в горах?
— Размокли и утекли вместе с дождём. Очень просто, — сказала Наташа.
— Нет, не похоже на это.
— Сколько вы книжек перечитали и до сих пор ещё не знаете, что в горах всегда заблуждаются.
Соня презрительно дёрнула плечом и нащупала под подушкой толстую книжку: «Мир приключений».
— Небось проблуждаешь там без обеда, так не то что на конфеты — на что попало набросишься с голодухи! — пробурчал ещё кто-то. — Съел сам, подкрепил свои силы, и на здоровье…
На этом мы и заснули.
Утро после грозы было ясное.
Взошло солнце и осветило верхушки деревьев.
Земля ещё не просохла от дождя и была холодная и сырая. Мы вышли на пустынный двор и отправились в конюшню.
— Странно, — удивилась Соня, — тут кто-то совсем чужой.
— Да и не очень красивый.
— Хуже нашего Чубарки?
— Ещё бы! Гораздо хуже.
— А Чубарый куда же девался?
Мы столпились возле маленькой, невзрачной лошадки с рыбьим глазом.
Лошадка фыркнула на нас, отвернулась и зашуршала в яслях сеном.
— Она, кажется, ничего, хорошая…
— На нас — никакого внимания.
— Нет, смотрите: машет хвостом.
— Глаза очень оригинальные, — сказала Соня. И непонятно было, хорошо это для лошади или плохо.
Пока мы обсуждали новую лошадь, в конюшню вошёл старик киргиз.
— А-а, кызляр! Аман-ба! [1]
— Аман, аман! Здравствуйте! Это чья лошадь, ваша?
— Моя: Якши ат, [2] хорошая? Нравится?
— Да, ничего себе. Только мы не об этом. Мы хотим знать, где наш Чубарый.
— Чубарый? — Киргиз свистнул, махнул рукой и сказал: — Ульды. [3] Парпал голова.
С утра, не переставая, хлопала калитка. В посёлке уже знали, что ночью приехал отец, и приходили к нему за новостями.
Отцу нездоровилось, его сильно лихорадило. Он лежал на кровати под шубами и без умолку говорил: рассказывал, как он пробирался домой через страшный Койнарский перевал.
Мы забились в уголке, за кроватью, ловили каждое его слово и всё-таки никак не могли выяснить самое главное: куда же он девал Чубарого? Едва он досказывал до середины, как приходили новые слушатели и просили начать по порядку.
Отец повторял всё сначала. И с каждым разом всё больше оживлялся, говорил всё громче и громче и как-то странно путался в словах.
— Послушайте, да у него жар! Бред! — прервал вдруг рассказ один из соседей. — Надо бы ему потеплее укрыться. А на ночь принять аспирину.
Нам велели сбегать в больницу за доктором. Больница была совсем близко, через дорогу.
Мы побежали изо всех сил. Разыскали доктора и впопыхах передали ему поручение.
— Очень важно! — крикнули мы ему на бегу. Приходилось торопиться, а то доскажет без нас.
— Сказал, что придёт! — закричали мы, врываясь в комнату.
— Тише!..
Мать погрозила пальцем. Отец заметался, засмеялся и заговорил очень быстро:
— Как он прыгал, прыгал… Всё пропало… И ружьё, и деньги, и седло. Достать надо, помочь… Он так прыгал… Помочь… Я сейчас…
Он рванулся с кровати.
— Лежи уж ты, пожалуйста!
В комнату вошёл доктор.
— Всё пропало… Помочь… — сказал ему отец.
— Эге! Да тут пахнет горячкой. И лицо какое воспалённое!..
Потом стало очень скучно. Все ходили на цыпочках. Отец кричал, чтобы кто-то кого-то вытаскивал. Он говорил, говорил, говорил…
На следующее утро нас к нему не пустили. Юля стала подслушивать у двери и, смеясь, поворачивалась к нам:
— Детское какое болтает.
Она вплотную прижалась к скважине и долго не отрывалась. Мы тормошили её:
— Что, очень смешное?
Вдруг она повернулась, в слезах.
— Да, тебе хорошо, — сказала она, жалко скривившись, — а они говорят — нарыв в горле…
К вечеру отцу стало ещё хуже, и доктор остался у нас на всю ночь.
Утром из больницы пришёл ещё один доктор. Они посовещались и разложили на столе какие-то блестящие щипчики и ножницы.
Мама, испуганная и бледная, ходила за доктором и просила:
— Я не закричу… Я не помешаю… Вот увидите… Позвольте мне помогать. Я вам ручаюсь за себя… Ну, можно мне подержать что-нибудь?
Потом пронесли таз. А нам сказали шёпотом, чтобы мы не совались под ноги, а шли бы подальше во двор и раздували самовар.
Отцу делали операцию: резали в горле нарыв. И если бы не прорезали, он мог бы задохнуться.
Мать вынесла нам на террасу несколько книжек и Наташины игрушки.
— Не унывайте, ребятки, — сказала она, видя, до чего мы расстроились. — Сидите только тихонечко и старайтесь быть хорошими. Может быть, всё как-нибудь обойдётся.
Она ушла, и мы стали стараться. Платок упадёт — все бросаются поднимать. Толкнут кого-нибудь или ногу отдавят нечаянно — сейчас же извиняются, просят прощения, спрашивают, не очень ли больно. Наташа в игрушках нашла непорядки.
— А кто это Вихрю выдернул хвост? И седло расклеил? Это ты, Олька, я знаю…
— Ну, не-ет! — возмутилась я. — Довольно мне этих придирок! Не знает как следует, а уж врёт прямо на меня. Ладно же, прощайся теперь со своими кудельками!
Соня поймала мою руку на полдороге к Наташиным косичкам:
— Ты что это? Разве можно теперь шуметь?
— Она рылась в моём ящике! Она испортила лошадь! — не унималась Наташа.
— Ладно, вруша несчастная! Знаешь, нынче какой день? Ври на меня сколько хочешь, пользуйся моей добростью. А я даже… плюнуть на тебя не желаю.
— Вот молодец! Сразу видно, кто любит своего отца, а кто нет.
Я уселась с книжкой в сторонке и старалась не слушать, как Наташа твердила, высовываясь из своего угла:
— Она, она виновата! Я знаю, что это она!
Время тянулось мучительно медленно. Книжки и игрушки вываливались у нас из рук. Мы бесцельно слонялись из угла в угол, прислушивались к каждому шороху. За нами по пятам, тоже грустная и тревожная, ходила наша собачка Джика.
Она чуяла, что в доме что-то неладно, и, словно спрашивая, в чём горе, настойчиво заглядывала в глаза.
— А, иди ты! Не до тебя сегодня, — отмахивались от неё, когда она пыталась приласкаться.
Джика поняла, что в чём-то провинилась, и, чтобы её простили и помирились с нею, она решила сама себя наказать. Она пошла в угол, села там за дверью и сидела повесив голову. Порой из угла слышались вздохи, нервное позёвыванье и жалобное: «ску… ску…»
Наконец дверь из комнаты больного распахнулась.
Доктор и мама вышли какие-то сразу похудевшие, но радостные и сказали, что нарыв уже прорезан и всё будет теперь хорошо.
Мы встрепенулись, вскочили на ноги и ссыпались с террасы, чтобы на радостях пронестись вокруг дома. Тогда, осторожно скрипнув дверью, Джика тоже появилась из угла.
Взглянула на нас и словно переродилась: припала к земле, подобралась в комочек… и, закинув голову, не помня себя от восторга, вылетела из комнаты впереди всех.
Съезд в Алма-Ате затянулся дольше, чем предполагалось.
Отец решил сократить обратный путь, чтобы на этом выиграть время. Он уговорился с лесником-киргизом и поехал напрямик по самой короткой, но зато и самой опасной дороге. Они должны были подняться почти до перевала, чтобы спуститься по другую сторону горного хребта, вблизи озера Иссык-Куль.
За день они добрались к белкам [4] и заночевали у пастухов. А на рассвете поехали дальше.
Чубарый больше двух недель стоял в Алма-Ате без дела. Он разъелся, застоялся, и теперь ему было тяжело. В первый же день он сильно устал и подбился.
Узенькая козья тропинка пробегала по замшелым скалам и осыпям щебня. Она то заводила к крутизне и обрывам, так что приходилось возвращаться обратно и разыскивать другой путь, то терялась в середине расскаты, [5] и тогда Чубарка начинал беспомощно кидаться во все стороны, осыпая из-под копыт груды камней.
Нет, эта дорога была не по его величине и весу.
Отец видел, как дрожали у него ноги, как ввалились бока и как грустно опускал он во время остановок свою холёную голову.
Совсем иначе вела себя маленькая, как коза, тощая лошадёнка лесника. Это была местная киргизская лошадь. Она легко карабкалась на кручи. Садилась на круп и так, почти сидя, съезжала по отвесным спускам. А когда всадники останавливались, чтобы закурить, она, спокойно помахивая хвостом, норовила зацепить какую-нибудь колючку и подзакусить на досуге.
Солнце показывало полдень, когда путники остановились у высокой выветрившейся скалы. Это был вход в Койнарский ледник.
Белая-белая до боли в глазах, мягкой и пушистой казалась долина ледника. Только чёрные зубы скал, кое-где оскалившиеся из-под снега, говорили о том, что надо быть очень осторожным, чтобы не остаться тут навсегда.
Дул порывистый, звонкий ветер. Дымком пробегал заверченный ветром снег. И что было особенно неприятно — небо начинало плотно затягиваться тучами.
Путники торопили коней. Чубарый уже несколько раз споткнулся, упал и разбил до крови оба колена. Киргизская лошадка тоже приуныла. А хозяин её, как только заметил тучи, принялся жалобно выть и причитать.
Уу-у-у! Уу-у-у! — тонко-тонко кричит ветер, пробегая по узкому, как труба, ущелью. Потом рванёт его как-то в сторону, и он басом скажет: гу!
Чубарый окончательно выбился из сил и едва передвигал ноги. Наконец он вовсе стал. Отец слез и пошёл пешком. Он попробовал вести Чубарого в поводу, но конь упирался. Приходилось тащить его силой.
Идти по крутой, неровной тропинке в длинной шубе да ещё тащить за собой лошадь — тяжёлая задача. Невольно разбирала досада: ведь едет же киргиз на своей клячонке! А тут здоровый жеребчина… такой откормленный, сытый…
Отец с раздражением дёрнул повод. Чубарый задрал голову и попятился. Это взорвало отца:
— А, так! Не желаешь идти в поводу — ладно…
Он снова сел в седло и несколько раз хлестнул лошадь нагайкой. До сих пор он никогда не бил его. Чубарый, дрожа и поджимаясь, заторопился по уступам…
Снизу из ущелья большим мохнатым медведем вывалилась туча. Догнала, перегнала путников и закрыла от них долину ледника. Стало ещё темнее.
Голубая молния полоснула небо. Загремел гром. Тот, кто никогда не слыхал громового удара в горах, не в состоянии даже представить себе, как это звучит. Грянет он с чёрного неба, словно из бездны, а с земли великанскими голосами закричат в ответ гранитные скалы-исполины. И эхо повторит, усилит ещё жуткий хор, оглушит, притиснет к земле…
Ничтожной козявкой чувствует себя человек среди разгулявшихся сил природы. И даже самого храброго охватывает страх и сознание своей полной беспомощности.
Тропинку замело. Пробирались наугад. Буря усилилась, поднялся снежный буран. Темнота от туч переходила в глубокий мрак ночи.
Путники погоняли лошадей, чтобы поскорее выбраться из ледника. Киргиз уверял, что до конца снега осталось не больше километра.
Вдруг Чубарый остановился. Отец тронул поводья раз, другой — он ни с места; ударил его нагайкой — конь дёрнулся было вперёд, но опять заартачился, замотал головой и сделал движение в сторону.
Он ясно показывал всем своим поведением, что здесь очень опасно и нет никакой дороги. Но отец вынудил его повиноваться.
Чубарый вздыбился, сделал громадный прыжок…
Что произошло в следующий момент, отец не мог сообразить. Он вылетел из седла и грохнулся об лёд.
То место, куда Чубарка отказывался идти, было фирновым мостом. [6] Между скалами намело снегу. Он перекинулся с края на край и сверху заледенел корой. Всё как будто крепко и прочно. Но где-то внизу, на большой глубине, — пустота, сводчатая пещера.
Когда Чубарый прыгнул и всею тяжестью опустился на передние ноги, лёд не выдержал, проломился. Конь провалился по самое брюхо. Он сделал усилие и прыгнул ещё. Передние ноги высвободились, но задние увязли ещё глубже.
Он отчаянно забился, стал кидаться в разные стороны, расшевелил всю массу снега. И вот, неожиданно, вся лавина тронулась с места. Всею тяжестью напёрла она на несчастного коня. Чубарый тоскливо, словно прощаясь с хозяином, заржал. Кровь хлынула у него из горла…
И так, стоя на задних ногах, полураздавленный, с гривой, дыбом поднявшейся над его измученной мордой, он стал медленно опускаться в пропасть.
Киргиз видел, как большая снежная оплывина исчезла в глубине трещины. При вспышках молнии он не мог разглядеть всего хорошенько и решил, что оба погибли — и лошадь и всадник.
Он слез с седла, сел на снег и заплакал.
Неизвестно, долго ли прогоревал бы он тут над пропастью, если бы не заметил, что лошадь его отошла на несколько метров. Он пополз за ней на четвереньках. Лошадь опустила голову и, нюхая дорогу, осторожно шла вперёд. Киргиз где ползком, где дрожащими от страха ногами пробирался за ней.
Вот и конец снегу. Лошадь остановилась и оглянулась. Киргиз поймал поводья, влез на седло. Через два часа он сидел у жаркого очага в кибитке верхнего аула и рассказывал о том, как шайтан унёс в пропасть лесничего.
Молния, блеснувшая в момент гибели Чубарого, погасла. Наступила продолжительная темнота. Отец поднялся и напряжённо вглядывался туда, где только что билась несчастная лошадь.
— Не может быть, не может быть… — громко твердил он сам себе. — Какой умница!.. Как он упорно боролся, чтобы спасти жизнь себе и мне…
И с надеждой он ждал новой молнии. Вот сейчас она блеснёт, и он снова увидит Чубарого. Надо только постараться поддержать его за повод. И он выкарабкается… наверное выкарабкается.
Молния ракетой взвилась в небе. И отец увидел… тёмную пропасть и белый столб взлохмаченного снега, который плясал над Чубаркиной могилой.
Один в разбушевавшемся леднике…
При первых же шагах он провалился в яму: вокруг намело огромные сугробы.
Собрав все силы, он засвистел и закричал леснику:
— О-го-го-го-гоооу!..
Прислушался. Буран заревел сильнее.
«Нет, где уж тут! Может, он и близко, да разве тут услышишь!»
Он почувствовал озноб, нахлобучил поглубже ушастую шапку. Пальцы закоченели и не сгибались. Нестерпимо захотелось закутаться в шубу, лечь на снег и заснуть. Но он превозмог это желание и двинулся в путь, разговаривая и споря сам с собой. Спотыкался, падал, увязал в сугробах. Вставал и снова шёл всё дальше и дальше, не зная, куда идёт.
Длиннополый тулуп путался в ногах. Отец скоро устал, запыхался и вспотел. Добравшись до камней, он уселся, чтобы отдохнуть и покурить. Но табак и трубка были на седле, на лошади, а лошадь…
«Что же это такое?! Не бред ли, не дурной ли, кошмарный сон?! Чубарый спас мою жизнь… Нет, он не может погибнуть…»
В отчаянии он затряс головой. Схватил горстью снег, сделал несколько глотков и поднялся. Лицо горело, голова была лёгкая, а ноги ныли от усталости.
Яркое горное солнце. Жгучий ветер с ледников. Оранжевые альпийские маки под синим небом.
Двое киргизов слезли с коней и наклонились над человеком, спавшим на камне.
«Что за человек? Откуда он? Где его лошадь, оружие?» — вертелось у каждого на языке. Но, верные своим обычаям, киргизы, казалось, не удивлялись. Они присели на корточки, не торопясь достали из-за пазухи флакончик с жевательным табаком, закинули по щепотке за губу и поглядели друг на друга. Суетиться, проявлять любопытство неприлично взрослому мужчине. Киргизы молча сосали табак, цыкали слюной в сторону и раздумывали.
В это время подъехал новый всадник — высокий, костистый старик. Он ночевал в ауле, куда забрёл лесник, и слышал его рассказ.
— Это лесничий, — догадался подъехавший. — Так он, значит, спасся? А там из аула джигиты поехали, чтобы вытащить его тело из пропасти. Вставай, джолдаш! [7] Нельзя спать на солнце!
Отец с трудом поднял голову. Ах, как она гудела! В ушах прямо стон стоял. Он тупо оглядел всех и снова улёгся. Тогда старик взял его за плечи, поднял, посадил на свою лошадь и к ночи доставил к нам домой.
Прошло около месяца. Отец выздоровел. После тяжёлой болезни выздоровление всегда радостно. Он целые дни насвистывал весёлые песни, хорошо ел, много спал и часто смеялся.
Мы с осуждением поглядывали на него.
— Смеётся, — говорили мы, собравшись за конюшней. — А зачем он лошадь сгубил? Что ему Чубарочка сделал плохого?
Один раз нам велели проветрить постели. Мы навьючились подушками и одеялами и караваном вышли во двор. Солнце палило вовсю. Подушки поджарились, словно на плите. Мы перевернули их на другую сторону и хвалились, кто лучше проветрил.
— Моя горячее всех! — кричала Наташа. — Вот попробуй-ка, сядь-ка. Прямо… встанешь.
Она садилась, вскакивала и предлагала нам делать то же.
— А я свою ещё выхлопаю палкой, чтобы не было больше микробов.
Палки дружно захлопали.
— Ну вот, после такой работы уже не выбьешь пылинки.
— А это мы поглядим.
Я размахнулась.
Одновременно с хлопком раздался отчаянный крик Юли:
— Не смей биться! По голове меня прямо…
— Чего же ты подходишь сзади?
— А чего ты размахиваешься?
— Так я ж не видела.
— «Не видела»! А ты бы посмотрела.
— Что ж нам теперь делать? Голову закинь назад, а то кровь очень…
При виде крови Юля принялась громко плакать.
В это время из-за угла вылетела Соня.
— Не реви, постой, — торопливо сказала она Юле. — Там про Чубарого новости. Казак-объездчик там, на крыльце, рассказывает.
И она исчезла, подхватив Наташу.
Про Чубарого? Новости? Какие же про него могут быть новости?
Я пожала плечами.
Юля вытерла фартуком глаза и распухший нос. Мне очень стало неприятно, что у нас так нехорошо получилось. Я извинилась, и мы, помирившись, побежали к дому.
Объездчик уже начал рассказывать. Шапка на затылке, ружьё поставил между колен; разгорячился, размахивает руками. А все слушают внимательно, смотрят ему прямо в рот.
— Тише, — говорят нам, когда мы, запыхавшись, подбегаем, — это про Чубарого.
— Ну вот, значит, выпил я для храбрости водки, скидаю полушубок и говорю: «Ну, вы своего шайтана боитесь, а мне на шайтана начхать. Да и нет их вовсе, шайтанов ваших. Вяжите, айдате, мне под грудями аркан и спущайте. И уж будьте надёжны: и вьюк, говорю, и седло — всё в аккурат представлю». Ну, а киргизы — они, конечно, рады. Потому им спущаться по их суеверию боязно. Обвязали они меня всего вдоль и поперёк и спущают. Качусь я по льду. Крутизна — смерть! Эх, думаю, отпустят аркан — поминай как звали! Вниз лучше и не смотреть: конца-краю никак не видать. Бездонная, словом сказать, пропасть. Треплюсь я себе, как червяк, на верёвочке… Вдруг — стоп!.. Льдина одна, здоровенная, выперлась боком, на манер полочки, и дорогу мне загораживает. Стал я на неё обеими ногами, огляделся и… Мать честная! Что это — ровно храп какой? Вижу, стоит он. Весь вдавился в снеговую стену. Белый, обмёрзлый. Грива, хвост — сосульки одни. Из носу тоже сосульки топорщатся. И над глазами — вместо ресниц. Стоит, на стену навалился, да так и примёрз к ней боком. А под льдиною!..
Казак зажмурился и покрутил головой.
Потом продолжал, ещё пуще разгораясь:
— И вот ведь — животная, а глядите, до чего смышлёная! Трое суток ведь так простоял, не шелохнулся. Только глазами водит, да ноздри так и трепещутся, так и дрожат. Прижался я к нему. Ах, думаю, горе-то какое! И помочь, главное, нечем. А конь-то уж больно обнадёжен — меня прямо ест глазами. Что ты будешь делать? Дёрнул я верёвку три раза, как было положено. Стали меня подымать. А конь!.. Как увидел, что я ухожу и опять его одного бросаю, повернул за мной морду, слезы в глазах и хрипит — зовёт: помоги, мол, брат, не уходи, не дай замёрзнуть живому!..
Соня отвернулась. Юля прижала руками наброшенный на лицо фартук. Наташа совсем близко подошла к рассказчику, гладила его колено маленькой загорелой ручкой и шептала:
— Ну, а потом… потом чего?..
— Наверху обступили меня киргизы. Почему, дескать, ты не снял седла и вьюк не захватил с собой? Тут меня разобрало. Тварь живая, может, говорю, погибает, а вы с седлом пристаёте! Коня выручить беспременно, говорю, надо. Трясут головами: «Ой, бой! Как можно, никак этого не можно. Провалился, жеребец — пускай там и сдыхает. Человек дороже коня». Они своё, а я своё. Тут вызвался киргиз — лихой джигит — спущаться со мной. Взяли досок, кошму — и айда. Насилу опять разыскали. Не позвал бы конь — прошли бы мимо. Шибко уж белый он — в снегу вовсе теряется…
Казак замолчал и завозился с табаком и бумагой. Но скрученная цигарка так и осталась незаклеенной, потому что все наперебой заторопили его вопросами:
— Ну что же, вытащили вы его из пропасти?.
— Как же вам удалось, а?
— И что же он, правда живой?
— Трое суток во льду! Шутка ли дело!
— Я и сам не надеялся. Да ведь вот удалось — вытащили. Обернули его войлоком, обвязали арканом, доски под живот подвели — и айда… Тянули, тянули… и вытянули. Размотал я верёвки. Из тюка сразу — пар. Чубарый отогрелся, вспотел, шерсть на нём закурчавилась. Лежит весь мокрый, слабый и головы поднять не может! Схватил я бутылку водки и ему в рот — раз! Выпил Чубарый — головой только замотал. Прикрыл его снова кошмами. Стонет лежит. Киргизы все в одну душу: околеет конь. Всё едино, говорят, сдохнет. А я говорю: дайте срок — отдышится. Оно по-моему и вышло. Отдышался…
Казак широко улыбнулся. Наташа снова ласково погладила его по колену.
Чубарый не мог поднять головы и долго не притрагивался к еде. Но потом, когда он обсох, у него проснулся волчий голод. Ему дали немного овса. Натаяли в казанке снега и напоили тёплой водой. Потом поставили на ноги. Он не мог переступать и всё валился на бок. С него сняли тяжёлый вьюк и седло и, подпирая, поддерживая со всех сторон, потихоньку сводили с горы.
Через каждые десять-пятнадцать шагов Чубарый падал. Ему давали полежать, потом снова поднимали и так, почти на руках, вели дальше. Каждый шаг от своей ледяной могилы Чубарому приходилось брать с бою. Ледник остался позади. До жилья было уже недалеко. Но киргизы выбились из сил и решили оставить лошадь на дороге.
Снова жизнь Чубарки висела на волоске. Ночью больную, беспомощную лошадь, конечно, заели бы волки. В это время сквозь верхушки ёлок полыхнул огонёк, и осипшая киргизская собака простуженно залаяла невдалеке.
Из аула спешила подмога.
— Живой! — послышались восклицания. — Неужели живой?!
— Живой, живой! Вытащили живьём из могилы.
Ещё несколько сотен неверных, дрожащих шагов — и Чубарый тяжело рухнул возле кибитки.
У костров забегали люди. Подбежали кудлатые, оборванные щенки и с ворчаньем обнюхали коня. Мимо с тревожным фырканьем и ржаньем пронеслись лёгкие тени кобылиц.
А Чубарый лежал, вытянув на ласковой траве свою большую простуженную голову, и трудно, хрипло стонал.
Больше месяца жил Чубарый в горах, на пастбище. Одна за другой приходили о нём вести: Чубарый уже поднимается, Чубарый уже может ходить, Чубарый заржал.
Каждую новую победу Чубарки над болезнью мы встречали шумной радостью.
— Чубарку приведут завтра утром, — услышали мы однажды за обедом.
— Конюшню для него мы уже давно приготовили, — поспешно заявила Соня.
Отец мельком взглянул на неё и как-то невесело усмехнулся.
Несколько дней назад он объезжал леса и по дороге наведался к Чубарому.
— Ничего не осталось от прежней лошади. Это теперь какой-то живой укор совести, — проговорил он как-то непонятно.
Потом Наташа приставала с расспросами:
— Что это было у Чубарки? Болело у него что? Папа говорил — укор у него какой-то.
— Укор совести, — поправила Юля. — Нет, просто лёгкое у него одно выболело. Он примёрз боком к стенке ледника — оно и простудилось. А потом вовсе выболело. Нужно два, а у него только одно лёгкое осталось.
— А укор?
— Ну что — «укор»? Что ты повторяешь чужие слова?.. Соня! А, Соня! Разве укор совести — болезнь?
— Конечно, болезнь. Ещё как страдают от этого.
— И Чубарка тоже страдает?
— Кто?
— Чубарка.
— Тьфу, глупые какие!
Она возмущённо повернулась ко мне и сказала про Наташу:
— И всё это оттого, что всякие микробы лезут во взрослые разговоры.
Мы всегда немножко гордились Чубарым.
И теперь, узнав, что его ведут, решили устроить ему торжественную встречу.
— Вот у нас лошадь, — говорили мы на посёлке, — трое суток в ледяной трещине — и хоть бы что? Одно лёгкое только начисто выболело. Завтра Чубарика нашего приведут. Идёмте встречать его с нами!
После таких разговоров утром к нам присоединилась целая ватага ребят.
Вышли со смехом и песнями. По дороге мы рассказывали о том, какой молодец наш Чубарка:
— Другим лошадям тяжело, а ему всё нипочём! Да вот вы сами увидите.
Прошли километра четыре. Дошли до конца большой карагачёвской аллеи. Выпили воду из фляжек (хотя, по правде, пить никому не хотелось) и повернули домой.
По дороге проезжало много людей. Ехали верховые киргизы, кавалькадами по пять-десять человек. Ехали одинокие всадники. Тарахтели по камням неуклюжие повозки. Верховые были и на клячах, и на бегунцах-аргамаках, и на быках, и даже на коровах. Часто бывало так, что едет киргиз на малюсенькой, захудалой клячонке, а рядом его жена — маржа — на корове. У маржи на руках ребёнок, а у коровы к хвосту привязан телёнок. Вся компания трусит дробной рысцой. А ребёнок и телёнок ревут что есть силы, стараясь перекричать друг друга.
Мы пристально вглядывались в проезжающих. Были среди них и такие, что вели в поводу лошадей или гнали их перед собой. Но нашего красавца Чубарого мы не видали нигде.
— Нет, сегодня его не приведут, — решили мы наконец и отправились домой.
— Не приведут его сегодня! — закричали мы, входя в калитку сада.
— Кого? Чубарку? Да он давно уже здесь. Не узнали небось?
— Как!.. Привели? Уже? Как же мы его проглядели? А где же он? В конюшне?
От нетерпения мы никак не могли отложить тяжёлый засов. Толкались, мешали друг дружке.
— Пусти — я…
— Стой-ка, ты не так…
— Дайте-ка я лучше попробую.
Нам не терпелось взглянуть на Чубарого, погладить его, попотчевать сахаром, почувствовать, как он осторожно собирает с ладони мягкими, как пушинка, губами.
Вот сейчас он почует, что мы несём ему сахар, звонко заржёт и весь заиграет от радости.
Наконец распахнули конюшню.
Худая, как скелет, костлявая, вся какая-то встрёпанная кляча лежала в стойле на соломе. Она с трудом повернула к нам голову, хрипло застонала — заныла вместо ржанья и сейчас же закашлялась.
— И это Чубарка? — горестно вырвалось у нас.
— Бедный, бедный…
— Нет, как же это?..
— Ну что же! Он теперь ещё лучше прежнего. Добрее… А умный какой…
— Он теперь совсем-совсем добрый… — сказала Наташа, едва удерживая слёзы.
— На, Чубаренький, кушай, — хлопотала около него Юля.
Мы с Соней долго молчали. Но когда я разжала губы, первым моим словом было:
— Так вот что значило «живой укор совести»… Но разве можно его, больного, куда-нибудь отдавать!
— Да, — сказала Соня со вздохом и прибавила очень решительно: — Никуда мы его отдавать не позволим!
До самого вечера сидели мы на корточках, поглаживая больную лошадь; разговаривали вполголоса, словно боялись её утомить. К чаю пришли молчаливые и решительные.
— Ну что? — спросили нас.
— Хороший он какой — добрый, умный…
— А вы разве не заметили?..
— Чего? Он лучше стал гораздо.
— Да. И мне он теперь лучше нравится.
— И мне!
— И мне!
Четыре голоса дружно прозвучали один за другим. Никто не замешкался, не отстал. Чубарый теперь нуждался в нашей защите. Пускай не беспокоится: не выдадим.
Мать поглядела на наши взволнованные лица.
— А молодцы у меня девочки, — сказала она.
В тот же вечер отец с матерью поссорились. Они оба разгорячились и кричали на весь дом.
— Никуда и никому я его не отдам! — слышался за дверью звонкий голос мамы.
— Да пойми же ты: всё равно ведь он сдохнет!
— Ну что же! Пускай! Сдохнет так сдохнет. А может быть, выживет. Он спас твою жизнь и пусть теперь доживает в покое и холе.
— Но мне для разъездов нужна лошадь, а не персональный пенсионер!
— И прекрасно. Заводи себе другую лошадь. А Чубарку оставь ребятам. Выходят его — их счастье.
Соня не удержалась и хлопнула в ладоши:
— Ну и мама! Ну и молодец!
Она толкнула дверь, и мы со смущёнными и радостными лицами гурьбой ввалились в комнаты.
Утром мы нашли Чубарого в том же положении, что и вчера. Только солома вокруг него была помята и разбросана. В чёлке и гриве запуталось много соломинок. Видно было, что он бился о землю, стараясь подняться. Это вчерашний длинный перегон отнял у него последние силы.
Когда мы подошли, он снова попробовал подняться: вытянул передние ноги и с усилием привстал.
Напрасный труд.
Задние ноги и круп совсем не слушались его. Чубарый тяжело повалился, вздохнул и заколотился головой о подстилку. Потом снова рванулся.
— Встаёт!.. Ну-ка, поддержим.
Соня подставила плечо. Я помогла ей.
Мы видели: так делал один извозчик, когда у него упала лошадь.
— А ну! А ну!
Юля и Наташа ловили негнущиеся Чубаркины ноги и старались найти для них точку опоры.
— Ага, ага, встаёт! Но-о! Чубарик, ннооо!
— Ах, чтоб тебя!..
— Что ты кричишь?
— Да, самой бы тебе так…
Чубарый стоял, растопырив ноги. Соня морщилась и скрежетала зубами: одно из своих копыт он поставил ей на босую ногу.
Я бросилась на помощь.
— Нет, нет, не толкай его так… Ты только чуточку подними… Ну, вот и ладно.
Нога была запачкана навозом. Сквозь грязь виднелась огромная ссадина.
— Заживёт, — решила Соня.
Наташа разыскала в углу конюшни какую-то грязную бумажку, послюнила и прикрепила её к Сониной ране.
— А то мухи нагадят, — пояснила она с видом опытного доктора.
Пока Чубарый не мог пастись сам на лугу за оградой, мы рвали для него траву руками. Он лежал недалеко от конюшни. Иногда там светило солнце, но трава около него никогда не бывала вялой: мы без конца приносили свежую. Кроме того, мы таскали ему всё, что попадалось на глаза: овёс, краюху хлеба, сахар. Замешают ли пойло для коровы — мы непременно улучим минутку, стащим для Чубарого отрубей или свёклы. Или посечём сухой клевер, обдадим горячей мучной болтушкой, прибавим «по вкусу» соли и угощаем нашего больного.
Чубарый долго был костлявым и некрасивым, но нам он казался красавцем.
По утрам мы чистили его скребницей и щёткой, расплетали и заплетали его гриву, чёлку и хвост в тугие косички. И каждую такую косичку завязывали на конце яркой косоплёткой. Наташа целыми часами разговаривала с конём, трудясь над его причёской. Чубарый с удовольствием слушал её голос и смех. Конь лежал, и большая голова его приходилась как раз вровень с животом девочки. Иногда она шептала ему что-нибудь в ухо. Конь тряс головой, а Наташа заливалась смехом и говорила:
— Нет, правда! Ты что трясёшь головой, не веришь?
Чубарый привык, что мы около него постоянно возимся, разговариваем. Без нас он скучал. И если мы куда-нибудь отлучались, он всё ещё через силу, с надрывом и кашлем, принимался ржать. И нам было веселее возле Чубарки. Мы даже читать собирались к нему.
Дома начинали ворчать:
— Вы уж захватывайте заодно свои постели и перебирайтесь совсем жить в конюшню.
Труды наши не пропали даром.
Чубарому с каждым днём становилось лучше. Сперва он, осторожно передвигая ноги, бродил по двору. Потом стал спускаться через огород к озеру. Там, на берегу, согретый яркими лучами, он стоял и дремал.
У купален всегда было весело. Мы с десятком поселковых ребят целый день полоскались в воде, а когда выбирались на берег, Чубарый открывал глаза и тянул к нам вздрагивающие ноздри.
— Чубарка! Чубарка! — звали его из воды.
Чубарый поднимал голову и пристально вглядывался в синеву озера. Разглядев наши стриженые, круглые, как шары, головы, он принимался ходить по берегу, ржать, а то даже спускался в воду. Мы хватали его за гриву и тянули вглубь. Чубарый упирался. Первое время он не отваживался заходить глубоко, но постепенно освоился и полюбил купанье.
Как-то маме понадобилось послать нас за чем-то. Она покликала нас во дворе. Не нашла никого и пошла за нами в купальню. Щурясь от солнца и ветра, взошла она на мостки, далеко уходящие в воду, и начала звать.
На зов из купальни выплыла пара собак, косматая голова Чубарого и с полдюжины загорелых крикливых чертенят.
Весь обсыпанный ребятами, Чубарка вышел из воды, фыркнул, отряхнулся и по-собачьи передёрнулся всей шкурой.
— А знаете, ведь он и вправду поправился! — удивлённо заметила мама.
Этот день был последним днём Чубаркиной болезни.
Прошло ещё несколько недель.
И вот однажды во дворе раздался радостный клич. Мимо окна прогарцевал сытый, отлично вычищенный конь. На спине у него восседали четыре девочки в красных шапочках.
Соня — впереди всех — держала поводья. За ней сидела Юля, обхватив её руками поперёк живота; дальше точно таким же образом умостилась я, а Наташа — четвёртая — повисла над самым хвостом.
Чубарого разукрасили на славу: грива и хвост пестрели яркими лоскутками. Над чёлкой красовался пучок красного мака. И весь выезд имел очень торжественный вид.
— Тпрруу-у! — сказала Соня, натягивая поводья. — Ну, мы поехали в город. Покупать ничего не надо? А то мы можем…
— Ишь ты, какая у них прыть! Только в город — это слишком далеко, а здесь, около дома, пожалуйста, покатайтесь. Осторожнее только, чтобы Наташа…
— Но-о, Чубарый! Работай ногами! Гоп-ля!
Четыре шапочки раскланялись. И Чубарый мягким ходом — переступочкой — понёс нас по широкой пыльной дороге.
Добрую половину дня мы проводили на лошади. Ездили и без седла и в седле, прыгали через канавы, заборы, учились слезать и садиться. Нам с Соней — старшим — было удобно, а вот Юле и Наташе сильно мешал малый рост. Наташе приходилось влезать на седло в три приёма: сначала, уцепившись руками, подтягиваться на стремя, потом перехватиться за луку и лечь животом на седло, а там уже перекинуть ногу через спину и умоститься как следует. Но такие мелкие затруднения никого не смущали.
— Это что — научиться ездить! Нет, вы научитесь падать — тогда я скажу: вот это здорово! — пошутил однажды отец.
Весь следующий день мы упражнялись в падании: надо было проезжать рысью мимо разбросанной возле стога соломы и, не замедляя хода, падать на неё с лошади.
Долго нам это не давалось: руки как-то сами натягивали повод. Да и падать было неприятно.
— Падать очень трудно, — признавались мы после отцу.
— А разве вы пробовали?
— Пробовали. И не смогли. Только Соня одна…
И мы рассказали ему про наши упражнения.
Незаметно подошла зима. Каждый день Чубарого запрягали в сани и отвозили нас в город, в школу. Он так привык подъезжать в семь часов утра к дому, что его только запрягали, а дальше уж он сам: открывал мордой ворота, выходил и становился у крыльца.
Мы с Соней (Юля и Наташа тогда ещё не были в школе) выбегали с сумками, садились в сани и торопили:
— Скорей, Чубаренький, а то опоздаем!
Дома часто все бывали заняты, и за кучера сажали Юлю. В армяке, в шапке с ушами и в больших рукавицах, она влезала на козлы. А на крыльце в это время заканчивалась очередная схватка между мамой и Наташей:
— И я тоже с ними! Что я, каторжная, что ли, — дома сидеть?
— Да зачем же тебе подвергать себя лишней опасности?
— Мне лишняя опасность — дома оставаться.
— Да ты себе нос отморозишь!
— Ну и пусть…
— Как же ты тогда — без носа? Нет, не пущу… Трогай, Юля!
— Нет, подожди, постой… Ай, подожди!.. А-а-а!..
Громкий рёв, крики, и через минуту Наташа, сияющая, со слезинками на глазах, громко и торжествующе сморкается в санях.
Юля испускает залихватский свист. Чубарка берёт с места, и мы несёмся вниз по гладкой, наезженной дороге.
Правила Юля отлично. Послушали бы вы, как она гикала, щёлкала языком и на опасных поворотах говорила, успокаивая коня: «ооо… ооо…».
В базарные дни дорога была очень оживлённой: сани, розвальни, пары и даже тройки торопились на базар.
Обычно же народу было немного — ехали мы да ещё двое-трое соседских саней. Мы постоянно вызывали их на соревнование. Нагоним и крикнем:
— А ну, понатужьтесь!
Поднимется смех, все оживятся, защёлкает кнут.
Чубарый дрожит от нетерпения и всё налегает на узду.
— Ооо… ооо!.. — басом воркует Юля, а в глазах у неё так и пляшут бесенята.
Соседские лошади бегут что есть силы. Мы поспеваем сзади. Дорога узкая. Но вот удобное местечко…
— Ии-и-иих! — звонко вскрикивает Юля.
Мы все вскакиваем на ноги: это самый захватывающий момент. Как будто кто взял и переставил сани вперёд… Вот они сразу поравнялись… Тяжело храпящие морды чужих лошадей проходят мимо наших лиц и остаются за спиною.
Чубарый, всё разгораясь, всё набавляя ходу, летит впереди.
В наших санях неописуемый восторг.
— Тише! Тише! — кричат нам прохожие и проезжие.
— Ооо… шш… Тише, тише, Чубарый! Подождем этих черепах.
Мы останавливаемся и великодушно поджидаем соседей. У них кучером маленький злой старичок.
— Погоди вот, сорванцы! Сегодня же скажу лесничему, чтобы больше вас одних нипочём не пускали. Ещё мода — ребята без кучера!
— А что? Мы вам мешаем, что ли?
— Людей покалечить хотите? Разве так можно ездить? Нет, уж сегодня папашке вашему скажу. Всё как есть ему объясню.
У нас в санях тишина, уныние.
— У вас отличный коренник! — восторгается вдруг Соня.
— Но, но, ты мне зубов не заговаривай!
— Мы небось ни разу ещё ни на кого не наехали. А вы вот вчера задели санями.
— Ладно, ладно. Поговори у меня! Экие зубастые, прости господи! — ворчит старик, снова озлясь. — Это уж там видно будет. А только езде вашей больше крышка.
А ну как и вправду не дадут больше править? Старикашка ехидный — пойдёт и нажалуется. Скажет: гоняют как сумасшедшие, не смотрят куда.
Мы не на шутку беспокоились.
В школе вызвали меня по географии:
— А ну вот ты, сидишь тут — галок считаешь. Иди-ка лучше сюда, к доске, и проведи карандашом по карте. Как бы ты проехала по Волге, скажем, от устья к истокам? От устья к истокам, понятно?
Я вышла к доске. Стала у карты, а сама всё про езду нашу думаю.
— Ну, что ж ты? — спрашивает учитель. — Не знаешь, как нужно ехать?
И вдруг я как во сне:
— Конечно, осторожно, — говорю. — Мы ездим всегда очень осторожно и никого ни разу не задели.
Потом меня задразнили за это.
Кто не видел Чубарого раньше, никогда не поверил бы, что этот конь провёл трое суток в ледяной пропасти.
К нему вернулись и статность и красота. Только голову он держал не так гордо, как прежде, да ноги у него часто отекали, да ещё на крутых подъёмах он задыхался, а выбравшись наверх, долго не мог отдышаться. Зато в долинах, по ровной дороге, Чубарый давал почти прежнюю резвость.
Однажды мы лихо катили из школы. Впереди на дороге, у самого посёлка, чуть замаячил одинокий пешеход. Юля присвистнула, и мы мигом его обогнали. Вдруг видим — он машет нам и смеётся.
— Постойте! Да это папа!
— Тпрру! Садись, папа, подвезём!
Чубарый заплясал на месте. Отец подошёл и, всё так же улыбаясь, оглядел коня:
— А молодчина стал опять мой Чубарый. Придётся вам… ишака купить, что ли?
— Что же, купи — это очень хорошо.
Отец любовался конём.
Он протянул руку и хотел потрепать его по шее.
Но Чубарый всхрапнул и рванулся в сторону. Уши он плотно прижал, зубы оскалил. Глаза у него зажглись злым огнём.
— Ты что это, брат? Неужели всё ещё на меня в обиде?!
И мы не могли понять, что это вдруг Чубарому померещилось. Отец попытался ещё — Чубарый опять рассердился.
— Ну ладно. Пускай… Поезжайте.
— А ты?
— Нет, мне надо зайти здесь по делу.
Юля нарочно пропустила отца вперёд. А когда он отошёл на порядочное расстояние, взяла Чубарого в вожжи, и он в полном блеске пронёсся мимо отца.
Мы были удивлены и очень обрадованы обещанием папы: Чубарка да ещё ишак! Целый день обсуждали, как мы тогда разместимся. Решили так: один кто-нибудь на ишаке, а трое — на Чубарке. Отлично!
За обедом отец сказал матери:
— Чубарый-то наш совсем поправился. Я думаю опять начать на нём ездить. А ребятам я обещал вместо него ишака.
— Вместо Чубарки! — ахнули мы в один голос.
— Ну, уж это дудки!
— Сначала отдали, а теперь отбирать…
— Так хорошие родители не поступают! — сказала Соня с дрожью в голосе. — Ты, папа, конечно, сейчас велишь нам выйти из комнаты, но мы и сами уйдём, а только… нехорошо так!
Она встала и гордо направилась к двери. Я и Юля молча последовали за ней.
— Мама! — сказала Наташа, слезая со стула и тоже отправляясь за нами. — А ты что же молчишь?
Мама вступилась за нас. Она что-то долго говорила вполголоса.
— Не могу же я отдать здоровую, сильную лошадь вместо игрушки! — громко ответил отец.
— Зачем вместо игрушки? На нём ездят в школу, по всяким поручениям. Чубарый дома несёт всю работу. А для объездов он теперь не годится: он может опять простудиться. Ведь у тебя же есть для этого служебная лошадь. Наконец, ты можешь купить себе любую лошадь. Но Чубарого выходили ребята…
— А мне больше нравится именно Чубарый. Я считаю, что нельзя так потакать всем ребячьим капризам.
Они замолчали. Мы тоскливо переглянулись: вот так похвастались Чубаркой! Что-то будет теперь?
Чубарка сам решил этот спор.
Страшные дни ледника и долгая болезнь навсегда запомнились лошади. Он положительно боялся отца, боялся его вида и голоса.
Из его рук он отказывался брать лакомства и всегда прижимал уши, когда отец поглаживал его.
Отцу это было неприятно. Чубарка прежде очень любил своего хозяина, и отец старался опять с ним подружиться.
Как-то вечером отец в прекрасном настроении возвращался домой. Проходя мимо конюшни, он вздумал зайти приласкать Чубарого и угостить его яблоком.
В конюшне было темно. Отец прошёл в стойло. Лошадь сердито всхрапнула.
— Но-но! Не узнал? — примирительно крикнул отец.
Нет, Чубарка узнал его сразу. Он подобрался и вдруг изо всей силы грохнул копытами в стену.
Отец бросился в угол. Лошадь тоже притихла и вгляделась в темноту.
— Чубарка! Чубарка, ты что это? А? Хозяина? Своего собственного хозяина? Ах ты, злопамятная скотина!
Через несколько дней к нам во двор привели горячего серого иноходца.
— Годен только под седло! — с довольным видом объявил отец. — Сидишь на нём словно в кресле. А в ушах ветер свистит, да столбы знай мелькают вдоль дороги.
Мы с увлечением исполнили за конюшней танец «диких с острова Фиджи».
Вскоре после этого отец совершенно помирился с Чубарым, но никаких попыток отобрать у нас нашего верного друга он больше не делал.
В Озёрный посёлок перебрался новый доктор. Это был весёлый толстый человек, и карманы у него всегда были набиты конфетами, крючками для удочек, свистульками и другими прекрасными и полезными вещами. Нашего Чубарку он называл «ледниковый период».
Нам очень нравилось, как он красиво и научно выражался. Карманы его тоже пришлись нам по душе. Докторята были нам сверстники. И всё было бы отлично, если бы не лошади.
Докторские гнедые не давали нам жить. Каждый день они летели в школу впереди Чубарого. Они были отличные лошади, эти докторские гнедые, мы должны были это признать. А вы думаете — это приятно?
С первого же дня докторята стали задевать Чубарого:
— Куда вам с вашим «периодом» до Орлика и Змейки!
— Да если бы Чубарый только захотел…
— А что же он не захочет?
— Стоит тоже… со всякими гоняться.
— «Со всякими»!.. У, хвастунишки несчастные!
Мы долго крепились. Гоняться по дороге в школу нам запретили, пригрозив отобрать Чубарого. А докторские думали: мы боимся — и дразнили нас всё пуще.
И мы не выдержали.
— Ну ладно. Вставайте только пораньше — поглядим, чья возьмёт.
Назавтра, в шесть утра, мы выехали из ворот и ждали на дороге.
Юля старательно завязала под подбородком тесёмочки от шапки.
Мы оглянулись на докторский дом.
У них ворота были настежь. Тёмно-гнедая пара стояла в глубине двора. Вот все выходят, усаживаются. Тронулись…
Стуча копытами, кони пробежали по мосту. Исчезли за поворотом. Ага, вот они…
— Трогай! — закричала я вдруг неожиданным каким-то голосом.
Сани дёрнулись. От толчка у меня звонко стукнули челюсти.
Мы выехали в поле.
Гонка должна была начаться сразу же, за первым поворотом, а закончиться у спуска возле мельницы, около каменных столбов.
Мы волновались за Чубарого и молчали. Был сильный мороз, но Юля стянула рукавицы.
— Жарко, — сказала она и бросила их на дно саней.
Лошади выровнялись и понеслись.
Мне хорошо запомнилось это утро. Над белым полем холодный дым. Солнце только-только начинало выглядывать. По гладкой, пустынной дороге с визгом скользили двое саней.
Сегодня уж Юля не решилась пустить противника вперёд (как она иногда делала), а старалась держаться всё время наравне.
Чубарый шёл превосходно. Мы ждали только первого лога. После него сразу всё будет ясно. Там, за поворотом, дорога настолько узкая, что двум саням рядом ни за что не проехать. Либо проскочить вперёд, либо пропустить докторские сани.
Юля это хорошо понимала и торопилась изо всех сил. Вот лог уже близко, а сани всё ещё идут вровень.
За поворотом спуск и небольшой подъём на гору. Рядом ещё есть старая, почти заброшенная дорога. По ней и спуск и подъём короче, но гораздо круче.
Юля оглянулась на нас.
— Айда по старой! — махнула рукой Соня.
И в тот момент, когда докторские сани проскакали вперёд, мы резко повернули, провалились в сугроб, выбрались на старую дорогу, ахнули вниз и вылетели наверх под самым носом у гнедых.
— Ой-ой! — вырвалось у киргиза-кучера. — Кондай яхши! [8]
Теперь только не пропустить их в узком повороте у реки.
Сзади слышны удары кнута. Это докторский кучер в сердцах хлещет по гнедым. Наш Чубарый мчит впереди вдоль самого берега. И вон уж виднеются каменные столбики…
Последний поворот.
— Р-раз!..
Сани сильно накренились, раскатились, и мы, как горох, посыпались на лёд.
Падая, я видела, как мелькнули гнедые и, тяжело дыша, стали у финиша.
Вытряхнув нас, сани выпрямились. Юля сильно ударилась, но осталась в санях. Она выехала на дорогу, остановила Чубарку и сконфуженно глядела, как мы, прихрамывая и потирая бока, подбирали шапки и книжки.
Подбежали докторский кучер и старшая девочка.
Они участливо спросили, скрывая торжество:
— Ну что, все целы? Костей не поломали?
— Не поломали! — буркнула Соня.
Докторские, широко улыбаясь, вернулись обратно, что-то крикнули, и гнедая пара спокойно покатила дальше.
«Тогда считать мы стали раны…»
Соня вывихнула большой палец. Юля разбила зубы, стукнувшись о передок саней, и всё время плевала кровью. У Наташи была шишка на лбу и ссадина на носу, а мне отдавили ногу.
Всем было больно. Но что это за боль! Главное, первыми пришли всё-таки гнедые!
К весне Чубарка совсем выправился и стал, как прежде, драчуном и забиякой. Чуть только забудут запереть ворота, он уже на улице и уже дерётся с чужими лошадьми.
Он умудрялся затевать драку даже в упряжи. Увидит, бывало, на другой стороне улицы лошадь, насторожит уши, выгнет шею гоголем, так, что со стороны даже смотреть трудно, и медленно поворачивает сани. Подходит и начинает обнюхивать.
Долго, изгибая шеи и нетерпеливо топая ногами, стоят лошади, ноздря к ноздре. Потом вдруг завизжат, вздёрнут морды и снова внюхиваются.
Так бывало, если в упряжи. А без неё — другой разговор. Раз, два, понюхались — и хвать зубами за загривок! Или повернутся и угощают друг друга увесистыми ударами.
Весной на холмах за посёлком паслось много лошадей. Чубарка неудержимо к ним стремился. И если это ему удавалось, домой его приводили покрытого рубцами, изодранного и искусанного.
Один раз ему так разбили глаз, что сделалось бельмо. И долго мы возились: лечили Чубарку, вдувая ему в больной глаз сахарную пудру.
А то ещё было — от удара напух у него под мышкой здоровый нарыв. Мы ставили ему согревающие компрессы, отгоняли мух, тучей лепившихся на рану, и целую неделю от нас несло йодоформом, как из аптеки.
— Чубарка убежит к лошадям — и его заколотят!.. Запирайте ворота, Чубарый убежит!.. Запирайте конюшню, Чубарый… Кто это оставил открытой калитку? — только и слышалось целые дни.
У нас росли звери и домашние животные, но ни за одним из них не было такого надзора, как за Чубаркой.
Из-за такого несуразного Чубаркиного поведения Наташа рассорилась в детском саду со своей учительницей. Они никак не могли столковаться.
— Какие животные называются дикими, а какие домашними? — спросили у неё.
— Которые живут дома — те домашние, а которые убегают — дикие.
— Ну, назови какое-нибудь дикое животное.
— Лошадь, — не задумываясь, ответила Наташа и пояснила: — Чубарка наш всё время убегает.
— Ну, а домашние тогда кто же?
— Домашние? Лиса, волк. Они никуда не убегают. Только в погреб очень лезут и в курятник.
Учителям оставалось только расхохотаться.
— Вот история! Всё в голове перепуталось.
Наташу это обидело:
— Нет, ничего у меня не путалось. Жеребец — самое беглое животное. А лиса у нас только по шкафам роется, за сахаром. Я это знаю наверное: лиса у нас живёт целых три года. И волки. И никуда никто не убегает.
Так они и не поняли друг друга.
Учительница не стала доказывать, что исключения только подтверждают общее правило.
А Наташа, когда выросла, сама поняла и очень посмеялась над своей ошибкой.
Соня и я болели свинкой. Шеи у нас распухли, выходить нельзя. Мы сидели и тосковали, запертые отдельно от всех, в комнате с надписью «свинюшник».
Снаружи весна, солнце, ласточки, всюду гроздья сирени, и все знакомые ребята уезжают в поле, встречать Первое мая.
Юлю и Наташу тоже пустили встречать. Они прибежали к нашему окошку, круглолицые, загорелые, и, прижимая к стеклу уже облупившиеся от солнца носы, что-то кричали, рассказывали нам и хохотали. Приводили к окошку Чубарого. Он смотрел через стекло на наши закутанные головы.
Сквозь ограду виднелись линейки с ребятами. Учитель из Михайловки с флейтой, руководительница детской площадки с гитарой… Кто-то принёс фотографический аппарат. Подъехало ещё множество народу.
Стало по-весеннему весело и оживлённо.
Наташу посадили на одну из линеек, а Юля и двое докторят покатили верхом. Мама вышла за калитку, помахала им вслед, а Юле, сверх того, погрозила. Потом пришла к нам в «свинюшник» ставить компрессы.
— Ты что это, мама, грозила?
— А то я грозила, чтобы помнила что надо и ехала поосторожнее.
Юля ехала сбоку линейки и отлично всё помнила. Но эти докторские — ох, и отъявленные же были ребята! — опять стали приставать к ней, чтобы гоняться. Пришлось согласиться.
Тележки пропустили вперёд. Остановились, сгрудились и стали уславливаться, докуда скакать.
С вечера прошёл дождь. Рыхлое, ещё не просохшее поле тянулось к горам и вдалеке словно проваливалось в черноту ущелья. Там, где исчезала дорога, чуть маячило сухое дерево.
— Скачем до дерева!
Досчитали до трёх и поскакали.
— Смотрите, гоняются! — закричали впереди на тележках.
Три годовалые тёлки стояли у края дороги. Они повернули головы навстречу лошадям и ждали. Потом задрали хвосты, замычали и ринулись вперёд.
На беду, одна замешкалась перед Чубаркиной мордой. Он споткнулся на полном ходу и сразу упал на колени.
Юлю словно сорвало с седла и бросило о землю.
— Я глянула, — рассказывала после Наташа, — она упала, и голова у неё откатилась в сторону, как арбуз. Ох, как я испугалась! Соскочила с телеги, подбежала, вижу — это шляпа пустая. А Юля лежит с закрытыми глазами. И Чубарый стоит рядом, отряхивается. Потом стал толкать её носом. Тут подбежали чужие и спугнули его. Я закричала: «Чубарку ловите!» — и скорее за ним.
Учителя не успели опомниться, как коротенькие Наташины ноги замелькали вдогонку за лошадью. Все окончательно растерялись: одна в обмороке, другая куда-то умчалась.
Недолго думая, михайловский учитель пустился за Наташей. Замечательная это была картина: вниз по дороге, балуясь и играя, рысил жеребец. За ним, расстегнув пальтишко и сдвинув шапочку на затылок, поспевала толстенькая девочка, а за ней, придерживая рукой падавшее пенсне, бежал учитель:
— Наташа, Наташа, подожди!
Он махнул рукой. Пенсне моментально свалилось. Этого ещё недоставало! Учитель сощурился, замигал глазами и, встав на четвереньки, пристально уставился в грязь.
А Наташа тем временем мужественно топала калошами, не теряя Чубарого из виду:
— Чубарик, Чубарка! Ну остановись ты хоть на одну минуточку!
И Чубарый как будто услыхал — пошёл всё тише, тише и остановился. Он поднял голову и загляделся на коров.
Ну, Наташа, теперь разводи пары! Долой калоши — мешают только. Раз, два — калоши полетели в разные стороны.
Наташа ринулась в обход.
Ох, и жаркий же это был день! Пальто и шапка отправились за калошами.
— Чубаренький! Чубаренький! Тпрусь, тпрусь!
Наташа собрала подол платья мешочком и сделала вид, что несёт овёс. Конь недоверчиво покосился, вздёрнул мордой, отбежал несколько шагов и снова покосился.
— Тпрусь, тпрусь! — твердила Наташа с отчаянием. Она как будто помешивала и пересыпала овёс в подоле, а сама подбиралась всё ближе и ближе.
Чубарый потянулся, шевельнул ноздрёй и заглянул в платье.
Наташа быстро ухватила повод. Попался! Теперь уже незачем притворяться. Она опустила платье. Чубарка не поверил, что его надули, и принялся разыскивать овёс. Он дул Наташе в лицо, дёргал её зубами за платье и даже куснул за живот.
Он тормошил её до тех пор, пока она не шлёпнула его по большой лоснящейся щеке:
— Нагнул бы лучше голову, дурной! Надо же мне перебросить поводья.
Ну вот, теперь всё как следует. Остаётся только сесть в седло. Вы думаете, это легко сделать, если стремена подняты так высоко, что до них не дотянешься?
Наташа огляделась.
Недалеко от дороги лежал большой камень. Она подвела к нему Чубарого, взобралась в седло и поехала обратно, устало отдувая красные от солнца и беготни щёки.
Первым ей встретился учитель. Он подобрал на дороге Наташины пальто и калоши и всё удивлялся, не понимая, откуда взялись эти вещи. Пенсне он так и не разыскал и прищурился на Наташу, задумчивый и сосредоточенный.
Наташа подумала, что он сердится и потому щурится и проходит мимо. Она придержала Чубарого и закашляла.
Учитель не обратил на это никакого внимания.
— Тогда отдайте калоши, — не выдержала Наташа. — Вы что, уже домой идёте?
— А-аа, это ты? А я не узнал тебя на лошади. Куда ты помчалась? Чубарый и без тебя отлично нашёл бы дорогу домой.
— Вот этого-то я больше всего и боялась. Прибежал бы домой, напугал бы всех. Мама могла бы подумать, что Юля насовсем убилась. Я затем и бежала, чтобы его не пустить.
— Скажите, какая догадливая! А мне это даже не пришло в голову. Так, значит, ты его здесь, на дороге, поймала, не дома?
Учитель пошёл рядом с лошадью. Наташа рассказывала, как она обманула Чубарого. Учитель внимательно слушал. Несколько раз он пристально вглядывался в простодушное лицо рассказчицы, закидывал голову и хохотал.
— Ну, ты прямо молодец! А я вот потерял очки и теперь не знаю, что делать.
— А где вы их потеряли?
— Да вон, кажется, там…
— Давайте я поищу. Подержите Чубарика.
Наташа спустилась на землю и стала ходить, согнувшись в три погибели.
— Вот же они! — крикнула она вдруг, поднимая залепленные грязью пенсне.
— Ну, теперь я живу! — повеселел учитель. Он вытер пенсне носовым платком, надел на нос и сказал: — Куда же мы теперь? Домой или к Юле?
— Зачем домой? Дома, пожалуйста, ничего не говорите. Напрасно только достанется Юле, да и Чубарку могут отнять. Лучше поедемте к Юле поскорее. Хотите, садитесь сзади меня… Да не так! С левой стороны надо садиться.
Учитель, улыбаясь командирскому Наташиному тону, полез на спину лошади. Чубарка повернул голову и с удивлением смотрел. Он сразу же почуял, что учитель — неважный ездок. Только учитель занёс ногу, Чубарый изловчился и куснул его за ляжку. Учитель умостился за седлом, потёр ляжку и поправил пенсне.
— А правь ты сама. Я ведь не умею, — сказал он и сконфузился.
Теперь уж и Наташа повернула голову и взглянула на этого странного большого человека.
Юлина голова быстро поправилась, и всё пошло по-старому. Потом, долгое время спустя, стала она у неё сильно болеть.
— Может быть, это от того удара, — сказал доктор.
Боли мучили Юлю круглый год. А зимой ещё и Соня сломала себе руку.
Раз вечером возвращалась она мимо колоды, где поят лошадей.
Там стояли чьи-то кобылицы. Чубарка, конечно, заартачился, заплясал на льду, поскользнулся и упал.
Падая, Соня вытянула руку вперёд, и рука сломалась. Кость хрустнула в двух местах — у кисти и чуть пониже локтя. Это было так больно, что, по словам Сони, во рту у неё стало «ужас как сладко, а в голове сразу замигали звёзды».
В это время проходил какой-то знакомый. Он подбежал, поднял лошадь и Соню:
— Что, больно?
— Очень, — сказала Соня сквозь зубы. — Ох, не троньте руку! Домой! Ведите Чубарого в поводу.
Мы с матерью разматывали нитки. Вдруг открылась дверь. В комнату вошёл пар, потом Соня, неся перед собой согнутую руку, потом знакомый, поддерживая её.
У Сони слетела шапка, голова растрепалась, и одна бровь вздёрнулась, как у мамы, высоко, до самых волос.
— Не пугайся, пожалуйста, — сказала она матери, — я просто сломала руку. Но Чубарка тут ни при чём. Он сам тоже упал и ударился.
Мать посмотрела на неё широкими глазами и схватилась за голову:
— Полжизни… Всю жизнь вы у меня отняли со своим Чубаркой! Что мне только делать с вами, не знаю!
А после что поднялось! Все забегали, засуетились. С Сони начали снимать тулупчик. Только дотронулись до рукава — Соня как закричит! Стали резать рукав. Вынули руку. Она распухла, стала как полено. Кто-то сказал, что надо её в горячую воду. Опустили в горячую воду. Потом стали спорить:
— Зачем в горячую? В холодную надо.
Вынули из горячей, опустили в холодную. Соня даже посинела от боли. Молчит, молчит — и вдруг громко так:
— Ой! Ой! Ой! Как больно!..
Подоспел отец с толстым доктором. Доктор нагнулся к Соне и всплеснул руками. Воду сейчас же унесли. Потом приготовили бинты, какие-то палочки и что-то белое, как мел.
Доктор снял пиджак, засучил рукава, подбежал к Соне, а отец с матерью держали её за плечи. Соня страшно закричала:
— Ай, ай, не могу-у-у-у!.. — и лягнула доктора ногой в живот.
Он отскочил, как мячик.
— Деточка, деточка…
Соня от боли потеряла сознание.
Руку вложили в лубки, забинтовали и дали Соне каких-то капель. Потом её уложили в кровать. Но она не могла улежать на месте. Рука так болела и ныла, что Соня всю ночь металась по комнате.
Просыпаясь, я слышала, как она ходит из угла в угол, качает забинтованную руку и баюкает её со слезами в голосе:
— А-а-а! А-а-а!..
У нас с Чубарым была настоящая дружба, и Чубарка надеялся на нас так же, как мы на него.
— Наш Чубарка не выдаст. Уж Чубарый-то небось не сплохует, — часто говаривали мы.
И правда, Чубарый ни разу не сплоховал.
Оттого ли, что всё время он проводил с нами и мы очень баловали и холили его, или уж это нужно было приписать его уму и понятливости (в чём мы, впрочем, не сомневались), но он отлично нас понимал. Мы часто с ним разговаривали, и он был настолько чуток, что по тону голоса догадывался, в каком настроении его хозяева.
Был с нами такой случай. Меня и Наташу послали в город с поручениями. На базаре я слезла и пошла в ряды покупать, а Наташа на Чубаром отъехала и стала в сторонке.
Через некоторое время я оглянулась, смотрю — около неё стоят какие-то люди. Гладят Чубарого, смеются.
После покупок мы устроились в тени. Дали Чубарому клеверу, проверили расходы и покупки и сидим дожидаемся, когда кончится жара, чтобы ехать домой.
Тут вспомнила я, что мне надо ещё забежать к сапожнику.
Оставила лошадь и вещи с Наташей и побежала на другой конец города.
Вернулась — уже темнеть стало.
Наташа сказала, что к ней опять приходили какие-то «дяди». Спрашивали, далеко ли она живёт.
— Я сказала, что около озера… А у них лошадь какая красивая!
Эти «дяди» мне что-то не понравились. Как раз накануне я слыхала, что у соседей украли двух лошадей.
— Поедем-ка лучше, Наташа, поскорее домой. А то как бы из-за этих дядек с нашим Чубариком чего не случилось.
Мы лихорадочно собирались. Но пока запаковали покупки, сложили их в мешок, съездили к колодцу, напоили Чубарого, стало совсем темно.
Дорога шла по длинной тёмной аллее до лога. По логу бежала река, которую нужно было переезжать вброд. Потом подъём на гору. И дальше до озера ровное поле.
Мы выехали на аллею, и Чубарый пошёл своей превосходной рысью.
Наташа крепко уцепилась за меня руками. Мы ехали без седла. Она сидела за мной. Я правила.
Не успели мы проехать двух километров, как я убедилась, что за нами кто-то скачет.
— Ну-ка, Наташа, — сказала я, останавливая Чубарого и вытягивая ступенечкою босую ногу, — перебирайся-ка ты вперёд.
— Зачем?
— Мы сейчас поедем очень быстро, и ты можешь и меня стянуть и сама упасть. А впереди ты будешь держаться за гриву.
Наташа быстро перелезла.
— Ну, поехали… Чубарый, айда!
Чубарый рванул и понёсся. Никогда он не бежал так хорошо, как в эту ночь.
Поднялся ветер, и деревья, кланяясь, уходили назад.
Задача заключалась в том, чтобы успеть добраться до лога.
Там, у реки, на мельнице, — знакомый мельник; если попросить, он, наверно, не откажется проводить нас до дому.
Ветер дул нам в спину, и с его порывами всё ближе раздавался топот погони. Догонявшая нас лошадь шла полным карьером.
Я поняла, что нам не убежать, и решилась на опасную уловку — спрятаться, чтобы погоня проскочила вперёд нас.
Я свернула с дороги, подъехала под ветвистое дерево и остановилась.
Карьер послышался совсем близко. Чубарка насторожился.
Вдруг я вся похолодела: кобыла!.. У них была кобыла! Это значило, что Чубарый непременно заржёт.
— От кого мы спрятались? — спросила меня шёпотом Наташа.
— Молчи, Наташа! Ох, молчи!.. Чубарик, и ты молчи, — как-то невольно прошептала я, поглаживая его горячую шею.
В лунных просветах замелькала лёгкая тень. Кобыла бежала, как кошка, беззвучно касаясь земли.
Наташа что-то шептала Чубарому. Мы обе тряслись, как в ознобе.
Кобыла исчезла за поворотом.
— Проехали, кажется?
— Подожди. Ещё нельзя… Они ещё близко.
В это время Чубарый поднял голову, прислушался и звонко заржал.
Вот было! Мы тихо ахнули…
Один, два, сразу три лошадиных голоса ответили на его ржанье. На дорогу выехали телеги.
Я думала, что они едут к озеру, и прямо подпрыгивала от радости: тогда не надо тревожить мельника — за телегами и мы отлично доедем.
Мы проехали уже и мельницу и лог. Дальше дороги расходились. Телеги неожиданно свернули налево, и мы опять остались одни.
Светила полная луна, и дорога была гладкая и белая, как полотно.
— Ну, Чубарый, лети!
Не успели ещё телеги скрыться из виду, как знакомый стук копыт снова послышался у нас за спиной.
Наташа вцепилась в Чубаркину гриву. Я сжала коленями бока коня и почти что не правила.
По белой от луны дороге, ныряя, мчалась чёрная тень.
— Ну, Чубарый, вся надежда на тебя. И-ии-их!
Чубарый сорвался в карьер. Наше волнение и страх передались ему. Это была бешеная скачка.
Вот и первые огоньки посёлка. Мы влетели в улицу, завернули за угол… и опомнились на траве перед нашей калиткой.
Чубарый остановился так резко, что мы обе перелетели через его голову.
На крыльце затопали чьи-то ноги. Кто-то с фонарём шёл к воротам.
— Я прекрасно слышала: примчался, как сумасшедший, и остановился у наших ворот, — услышали мы Сонин голос.
Чубарый заржал.
— Ага, видишь? Чубарка. Они! Они!
— Неужели вернулись? — закричала мама с крыльца.
— Это мы. Откройте! — откликнулась я немножко вздрагивающим голосом. — Что же вы не открываете?
Мы с Наташей взяли Чубарого под уздцы и вместе с ним прошли в ворота.
— Миленький ты мой, умница моя! — шептала ему Наташа.
— Наташа, смотри только никому не проболтайся об этом.
Но сохранить приключение в тайне не удалось. Соня и Юля пошли посмотреть Чубарого и вернулись со скандалом:
— Что вы сделали с Чубаркой? Пойдите посмотрите, на кого он похож! Хоть выжми. До сих пор отдышаться не может.
— Свинство какое! Так гонять… Никогда не получите больше лошади!
— Мы не гоняли, — растерянно ответила Наташа и оглянулась на меня, — мы потихоньку ехали.
— «Потихоньку»! Что ты врёшь? По лошади небось сразу видно.
— Правда, Наташа, зачем ты говоришь неправду? Мы же ведь ехали быстро, мчались прямо во весь опор.
— А зачем же ты сказала, чтобы никому не рассказывать?
— Чего не рассказывать? — заинтересовалась мама.
— Да что мы с ней удрали.
Я увидела, что Наташа проговорилась, и рассказала тогда уже всё.
Мы так привыкли всем делиться с Чубаркой, что предлагали ему, не разбирая, всё что ни попало. Как-то Юля ела котлетку. Чубарка потянулся к ней. Юля отломила половинку и угостила его. Он съел с большим удовольствием и стал искать ещё.
А в другой раз — на прогулке. Мы уже собирались домой и приканчивали оставшийся провиант, чтобы не тащить его обратно. Все были сыты до отвала, а ещё оставался хлеб и бутылка молока. Хлеб отдали собаке, а молоко вылили в клеёнчатую Юлину шляпу и шутя предложили Чубарому.
Он выпил всё до капли и аппетитно закусил краюшкой хлеба.
Понятно, что после этого мы часто удивляли старших своими разговорами о том, что лошади питаются молоком и котлетами.
— Откуда вы это берёте?
— От Чубарки от нашего. Он всё это с удовольствием ест.
Мы забирались на кручи, в самую отчаянную глушь, и всегда у нас была твёрдая уверенность, что Чубарый вывезет. Случалось нам заблудиться. Тогда мы бросали поводья, и он сам находил дорогу.
Мне запомнилось, как мы ездили в Михайловку за картошкой.
Село стояло на горе, и подъём к нему был очень крутой.
Как раз за день перед тем прошёл снег с дождём, потом ударил мороз, и была страшная гололедица.
Перед нами ехало ещё трое саней, но все они замялись перед подъёмом. Лошади наотрез отказывались идти: делали несколько шагов в гору и потом пятили сани назад.
Мы выскочили вперёд:
— А ну-ка, Чубарик!
С торжеством мы увидели, что Чубарка послушно и сильно влёг в хомут.
Начали подниматься.
С первых шагов стало ясно, что мы сделали безобразную глупость.
По горе ещё вчера сбегала вода, а сегодня она застыла ледяной корой. Подъём был невозможно трудный.
Чубарый беспрестанно скользил.
Дорога шла узкой лентой. Слева — стена, справа — обрыв.
Назад теперь уже не повернуть. Хочешь не хочешь, а приходилось взбираться. Снизу нам что-то кричали, но мы ничего не слышали, не понимали и только со страхом глядели на Чубарку.
Он карабкался, падал… И опять карабкался из последних сил.
Скоро конец.
На хребте показались люди.
В это время Чубарый упал на колени.
— Ну, ну, ну, Чубаренький! — взмолилась Соня, сжимая руками передок саней.
Чубарый, тяжело дыша, пополз на коленях.
А сверху уже бежали крестьяне. Один подхватил его под уздцы, другой подпрягся к оглобле, третий толкал сани сзади.
— Эээй-эй! — кричали они разом. — Понатужься-ка ещё немного, родной!
Мы выбрались наверх и стояли, не веря своим глазам.
— Ну лошадь! — раздалось вокруг. — Вот это конь! Этот не выдаст: на коленях доползёт.
Мы опомнились и с благодарностью оглянулись. Чубарый стоял окружённый людьми. Дрожащую переднюю ногу он выставил вперёд и на неё склонил усталую, взмыленную голову. Бока у него мучительно вздымались. Меня точно кольнуло:
— Дышит как… И всё из-за нас, подлецов…
Вскоре после этого Чубарый начал прихварывать.
Однажды, придя в конюшню, мы увидели, что он лежит. А в яслях — нетронутое сено.
— Чубаренький! Что с тобой? Уж не заболел ли ты опять?
Мы сильно встревожились, но решили подождать до обеда.
Дома в это время были какие-то неприятности, и, когда Соня стала говорить про Чубарого, отец с матерью ответили:
— Не до вас сейчас, не приставайте.
Чубарый пролежал до самого вечера.
На ночь мы укрыли его попоной, напоили тёплой водой и придвинули к нему сено.
Пил он охотно, а к сену совсем не притронулся.
Вечером у нас был совет.
А на рассвете я и Соня пешком отправились в город к папиному товарищу — ветеринарному врачу.
До города было далеко.
Мороз стоял крепкий. Лица у нас налились краской, на ресницах повисли снежные звёздочки, а кончики пальцев немилосердно щипало. Но мы как-то не замечали ни мороза, ни усталости. Мы шли, молчали и под монотонный визг и хруст снега думали о больном Чубарике.
Врач был дома. Он расположился около самовара с горячими лепёшками и сметаной и был в прекрасном настроении.
— А, амазонки! — закричал он при виде нас. — Давайте-ка вместе разделаемся с этими лепёшками.
— Спасибо. Мы не за этим.
Мы поздоровались и в волнении остановились у стенки.
От тёплой комнаты меня стало знобить. А у Сони глаза и нос блестели сильнее медного самовара.
— Ну, я вижу, у вас что-то случилось. Рассказывайте. Папа с мамой здоровы?
— Чубарый у нас заболел.
— Да ну! Что же с ним такое?
Мы рассказали всё, что успели заметить: он не встаёт, совсем не ест. А ведь он не очень здоровый: ведь он был в леднике, и теперь у него только одно лёгкое…
— Та-ак! Ну, вы хорошо сделали, что обратились сейчас же ко мне. Может быть, мы вылечим его ещё. Я приеду, девочки, непременно приеду, только попозже, к вечеру.
— К вечеру? А если он… А сейчас вы не могли бы? Дома у нас там… ссорятся. Денег им всё не хватает. А что лошадь заболела, до этого никому дела нет. Хоть умри — не обратят внимания!
Соня незаметно протянула ко мне свою руку: нет ли у меня с собою носового платка?
Я пошарила в кармане: нету. Забыла тоже. Тогда она просто смахнула около носа рукой и небрежно сказала:
— Мухи тут у вас…
Доктор взглянул на неё исподлобья и опять улыбнулся:
— Ну-ну, не надо плакать…
Мы сразу повеселели: теперь он наверное поедет. И правда, он стал распоряжаться:
— Жена, погрей-ка моих гостей чаем, а я пойду разыщу валенки и соберу лекарства.
Нас усадили за стол. Доктор всё время шутил и болтал.
— Ну, вот я и готов. Вы как припутешествовали, амазонки? Верхом или в санках?
— Нет, мы просто пришли. Мы ведь ушли рано, в пять часов. Дома все ещё спали.
— Как — пришли? Пешком, с озера?
— Ну да. Из дому.
— Амазонки, вы мне положительно нравитесь! — захохотал славный ветеринар. Он переглянулся с женой и пошёл запрягать свою лошадь.
Мы досыта напились чаю. Поблагодарили хозяйку и вышли за доктором. Дорогой мы расспрашивали его, много ли он вылечил лошадей. Оказалось, что очень много. Мы совсем успокоились.
Завиднелся посёлок. Показались наши ворота.
Не успели мы въехать на мостик, как ворота сами растворились. Это Юля с Наташей: они всё выбегали смотреть. И как только разглядели, что мы едем, заранее вытащили закладку от ворот и распахнули их перед нами.
Мы сейчас же пошли на конюшню.
Чубарый лежал всё так же. Врач начал внимательно его осматривать. Пробовал поднять, но Чубарый не мог держаться на ногах. Он повалился на землю и застонал. Наташа заплакала. Мы со страхом посмотрели на доктора.
— Плохо. Совсем плохо, ребятки. Вашего Чубарого разбил паралич. Тут уж ничего не поделаешь. Больше двух-трёх дней ему не протянуть. А лучше бы пожалеть его и пристрелить сразу. Это одна секунда, а так мучиться будет, бедняга… Да что это вы? Что вы на меня так смотрите?.. Где отец?
Он пошёл в дом, а мы стояли над Чубарым, не смея взглянуть друг на друга. Наконец я подняла голову. Никогда больше не видела я таких жалких лиц…
К вечеру Чубарому стало ещё хуже. Он начал стонать и колотиться о землю. Мы, как потерянные, бродили около него.
Наутро Соня и я, не сговариваясь, вошли к отцу.
— Чубарый мучится… — сказала я так трудно, как будто в горле у меня перевернулось яблоко.
— Хорошо, — ответил отец. — Я знаю. Доктор говорил мне о Чубарике. Не горюйте, дочурки, это одно мгновение.
И он вытянул ящик, где лежал револьвер.
Мы забились по углам и не видели больше друг друга.
Но я знаю наверное, что все приходили проститься.
— Где же девочки? — удивлялась мать. — Отчего никто не обедает?
— Оставь их, — ответил отец.
Мы скрывались до поздней ночи. Так прячут только большое горе. И никто из домашних не видел, как грустные, заплаканные дети молча уходили из опустевшей Чубаркиной конюшни.
----------------------------------------------------------------------------
Примечания
1
А-а, девочки! Здравствуйте! (кирг.)
2
Хорошая лошадь? (кирг.)
3
Умер, издох. (кирг.)
4
Белки — вершины гор, покрытые вечным снегом.
5
Расската — каменная россыпь по склону горы.
6
Фирн — оледенелый, слежавшийся снег.
7
Джолдаш — товарищ. (кирг.)
8
Вот как здорово! (кирг.)
Тигренок Васька
- Просмотров: 4872
Тигренок Васька — Перовская
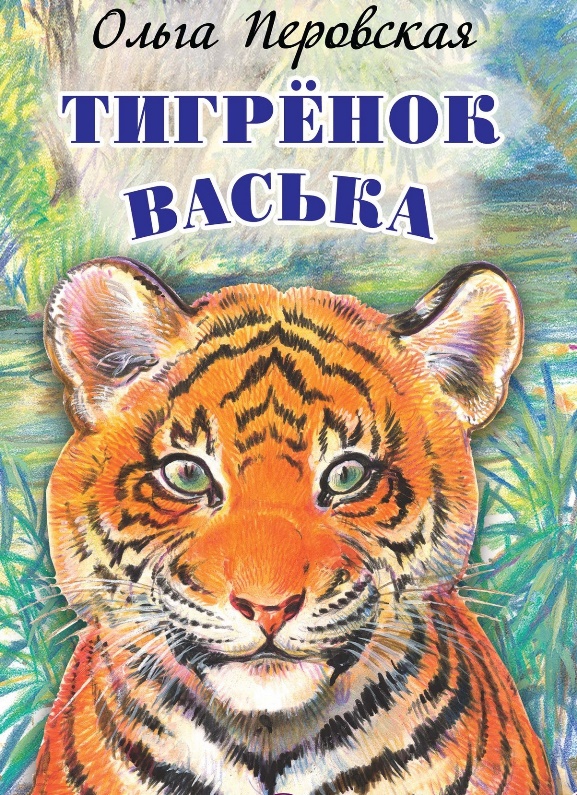
Мы играли в саду за домом, когда вернулись охотники. С террасы закричали:
— Бегите скорей, посмотрите, кого привезли!
Мы побежали смотреть.
По двору, описывая круг перед крыльцом, проезжали одна за другой телеги. На них были шкуры зверей, рога диких козлов и кабаньи туши. Отец шагал у последней телеги, а на ней, на передке, сидел, сгорбившись и озираясь по сторонам… тигрёнок. Да-да, самый настоящий тигрёнок! Усталый, покрытый пылью, он ухватился когтями за край телеги и так протрясся по всему двору. А когда лошадь остановилась перед крыльцом, где стояло много людей, он испугался, попятился и растерянно оглянулся на отца.
— Ну вот, Васюк, и приехали! — сказал ему отец.
Он взял тигрёнка на руки и отнёс его на террасу.
Тигрёнок был такой необычный, что мы тоже растерялись.
— Не надо его на террасу! — закричала Наташа, самая маленькая из нас. — Там мои игрушки…
— Тигры не едят игрушек, — сказала Юля.
Она подумала и добавила:
— Придётся его хорошенько кормить, а то как бы не стал кусаться.
— Да, уж это вам не котёнок какой-нибудь.
— А глаза у него какие большие… и хвост… Заметили хвост? Волочится прямо по земле.
— Ну уж и «по земле»! Всегда прибавишь.
— А давай посмотрим!
Мы гурьбой, толкая друг дружку, поднялись на террасу.
Тигрёнок расхаживал вдоль перил и старательно всё обнюхивал. После тряской дороги у него, наверно, кружилась голова и пол уходил из-под ног. Он шатался, как пьяный, часто садился и закрывал глаза. Но чуть только ему становилось лучше, он снова торопился обнюхивать, как будто его кто-нибудь заставлял.
С перил свешивался рукав ватной куртки. Тигрёнок уцепился за него лапой и сдёрнул вниз. Соня громко засмеялась. Он поднял голову и уставился на неё.
Теперь мы его хорошо рассмотрели. Он был с полугодовалого щенка сенбернара; у него была большая, широкая голова с круглыми зелёными глазами, широкий лоб и короткие уши. Передние лапы были тяжёлые и сильные, а задние — гораздо тоньше. Туловище было худощавое и щуплое, и хвост длинный, как змея.
— Совсем ещё ребёнок, — важно сказала Наташа.
И правда, он был ребёнок. Неуклюжий, маленький, одинокий, он прижался к ноге отца и потёрся об неё, как будто желая сказать: «Я здесь один, и я маленький, так уж ты, пожалуйста, не давай меня в обиду».
Пока отец отпрягал лошадей, разбирал вещи и умывался после дороги, мы взяли тигрёнка на руки, понесли его в комнату, положили на самое почётное место, на диван, и все стали вокруг.
Мы старались заметить в нём что-нибудь особенное и внимательно к нему приглядывались.
Тигрёнка накормили из чашки тёплым парным молоком. Он налакался, растянулся опять на диване и прищурился на свет большой лампы. Ему очень хотелось спать, но он не засыпал, а всё время шевелил ушами.
Как только накрыли стол для ужина и в комнату вошёл отец, тигрёнок поднял голову и потянулся к нему с каким-то странным звуком, похожим на громкое мурлыканье: «ахм-хм-гм-гм».
— Ишь ты, слыхали? Засмеялся от радости! — удивилась Наташа.
Отец погладил тигрёнка. Он снова улёгся на своё место и заснул под шум разговора.
За ужином мы всё узнали про тигрёнка. Звали его Васькой. Его поймали далеко, за четыреста километров от нашего города, в камышах, около большого, пустынного озера Балхаш. Один охотник-казах, большой приятель отца, выследил логово двух тигров. Тигры в этой местности не водились, и эта пара забрела случайно из Персии. Казах дал знать отцу, а сам продолжал следить за тиграми. Он узнал, что тигры пришли сюда не охотиться, а прятаться в надёжное место, потому что у тигрицы должны были родиться детёныши.
Скоро тигрица куда-то скрылась. А тигр ушёл за перевал и больше не возвращался.
Охотник со дня на день ждал отца. Он обшарил все окрестности, стараясь отыскать тигрицу. И вот раз он наткнулся на свежие следы. Они шли по песку и спускались к реке.
Охотник притаился в кустах и оттуда внимательно оглядел прибрежный камыш. Вдруг на другой стороне он увидел тигрицу. Она осторожно пробиралась в зарослях и несла в зубах что-то тяжёлое. Потом бросила свою ношу, переплыла реку, прошла мимо охотника и на виду у него стала удаляться. Охотник живо смекнул, в чём дело. Он ударил свою лошадёнку, но, вместо того чтобы гнаться за тигрицей, поспешил к тому месту, где она что-то оставила.
Он правильно рассчитал: в густом камыше, тесно прижавшись друг к дружке, сидели два маленьких тигрёнка.
Охотник сгрёб их за шиворот, сунул в перемётные мешки — коржуны — и сел в седло. Тигрята пищали, барахтались и вылезали из мешков. Казах только плотнее прижимал коленями мешки и знай нахлёстывал свою клячонку.
Он хорошо понимал, какая ему грозит опасность, если тигрица бросится в погоню. Ведь она в несколько прыжков догнала бы и убила и усталую лошадёнку и похитителя тигрят. На ружьё у казаха тоже было мало надежды: оно было очень старинное, заржавленное, ствол у него давно разболтался и был тряпочкой привязан к ложу.
И вот с таким замечательным конём и оружием этот бесстрашный охотник рискнул увезти детей у матери-тигрицы.
Примчавшись в аул, охотник стал думать, как уберечься от ярости тигрицы. В это время подоспел на подмогу отец с другими охотниками. Тигрят спрятали в одну из юрт. Вокруг аула разбросали отравленные куски мяса и разожгли огромные костры.
В ту же ночь тигрица явилась в аул. С диким рыканьем металась она вокруг жалкой группы юрт, но огонь внушает зверям непреодолимый страх — она так и не решилась ворваться за пылающую черту.
В ярости задрала она лошадь и на рассвете ушла в камыши, чтобы к ночи явиться обратно, ещё страшнее и бешенее.
На следующую ночь она опять рыскала вблизи аула, и здесь её настигла смерть: она съела кусок отравленного мяса и околела. Наутро её нашли мёртвой.
Когда отец узнал, какой страшной опасности подвергался его приятель, охотясь с плохим ружьём, он снял с себя прекрасное охотничье ружьё и отдал его товарищу. Казах был в неописуемом восторге и отдарил отца шкурой тигрицы и одним из тигрят.
До нашего дома Ваське пришлось вынести длинное, тяжёлое путешествие. Почти половину пути ехали за верблюдах. От их качающейся походки бедному Ваське становилось плохо: его рвало, у него начинала идти носом кровь. Тогда отец слезал с верблюда и нёс тигрёнка на руках.
Отсюда и началась их крепкая дружба.
— Да, натерпелся Васька за дорогу, — кончил рассказывать отец. — Один раз он совсем перепугал меня: думал — вот-вот скончается. Лежит, глаза закатил, ноги дёргаются; пропал, думаю. Нет, ничего, отдышался.
— Ещё бы не отдышаться, — заметил один из охотников: — из-за него, шельмеца, целую неделю пришлось задержаться в Рыбачьем посёлке. Ухаживали за ним, как за султаном турецким.
Мы засмеялись.
— А вы почему ещё не спите? — спохватилась мама. — Двенадцать часов. Живо по кроватям!
Уходя, мы почтительно погладили Васькин хвост, откинутый гордо на валик дивана. А мать с отцом стали обдумывать, как устроить тигрёнка на ночь. Мать тогда ещё не знала Васьки и опасалась оставлять его непривязанного. А отец говорил, что Васька ручнее котёнка и бояться его просто смешно. Ну, да в крайнем случае можно закрыть от него двери.
Так и сделали. Оставили Ваську на диване, лампу потушили и двери заперли на задвижку.
Только они ушли, Васька поднял голову. Видит — темно… пусто… тихо…
И вот этот «страшный» тигр соскочил с дивана, забегал по комнате, натыкаясь на мебель, и заорал с перепугу: «ба-а-ум… ба-а-ум… ба-а-ум…»
Отец думал — он покричит и перестанет. Но Васька не успокаивался и кричал сначала сердито, а потом всё жалобнее и жалобнее. Его пожалели. Пришли к нему. Он обрадовался, бросился к отцу и стал лизать ему ноги и мурлыкать. Ну конечно, его взяли к себе в комнату, привязали там на длинную цепочку под столиком, на котором стояла машина, подостлали мягкий войлок, и Васька с довольным видом улёгся.
Пока мама причёсывала волосы и разговаривала с отцом, Васька лежал смирно. Но как только отец вышел, тигрёнок мигом вскочил и стал с тревогой смотреть ему вслед. Вернувшись, отец приласкал Ваську, и все спокойно заснули.
Утром мы проснулись, уселись на своих кроватях, и первые слова Наташи были:
— Тигрёнок Васька был вчера или не был? — Ей всю ночь снилось про тигрёнка, и она никак не могла разобрать, что во сне, что наяву.
— Я знаю наверное, что был, — ответила Соня, и мы пошли в столовую проверить, там ли вчерашний тигрёнок.
Приходим туда и видим — никого нет. Бросились к маме. Она показала под столик, а он сидит там и пучит на нас свои смешные глаза.
Сейчас же отвязали цепочку и с шумом, с криком повалили с тигрёнком в сад.
Там мы побегали, поиграли и познакомили Ваську со своими друзьями — собаками. Собаки росли и воспитывались вместе с нами. А игры мы всегда придумывали такие, чтобы они тоже могли принимать в них участие.
Васька держался с собаками очень вежливо, но они, видимо, сразу почуяли, что это за птица, и, поджав хвосты, убежали.
На солнце лежал старый охотничий пёс Заграй. Васька медленно подошёл и потянул к нему голову. Заграй лениво встал, покосился на Ваську и поскорее отошёл.
Тигриный запах заставлял дрожать охотничьих собак. Один только молодой дворняга Майлик не смыслил ничего в охотничьих запахах. Он перепрыгнул через Ваську, припал к земле, толкнул его лапой, вертанул хвостом и, звонко лая, затеял с ним игру.
Васька расшевелился и неуклюже поскакал за собакой.
Догоняя друг дружку, они выбежали на залитый солнцем двор. Там охотники вынимали и развешивали для просушки шкуры привезённых трофеев. Мама с крыльца смотрела, как распаковывали чучело тигрицы — Васькиной матери. Грубое, наскоро сделанное чучело обмахнули веником от соломы и положили на середине двора. И Васькино сердчишко не выдержало: до сих пор он спокойно следил за людьми, а тут забыл всех, забрался на спину тигрицы, прижался к ней и стал её лизать и мурлыкать: «М-гм-гм… м-гм-гм…» — таким ласковым, дрожащим голосом.
— Вот видите, сразу узнал мать, — говорили мы, стараясь отвлечь Ваську от грустных воспоминаний.
Это в самом деле было печальное зрелище: чучело убитой тигрицы и нежно прильнувший к нему маленький тигрёнок.
Чучело поскорее унесли.
Васька заметался по двору, отыскивая мать, но потом отвлёкся едой, заигрался и забыл про неё.
Убрав комнаты и окончив всю утреннюю работу, мы сели пить чай, а Ваську, во второй раз, решили покормить позже.
Не тут-то было… Тигрёнок взобрался на диван, повёл носом и определил, что это со стола так вкусно пахнет. Он бросился на колени к кому-то из сидевших за столом, сгрёб к себе передними лапами тарелки и чашки и угрожающе над ними зарычал.
Все перепугались и повскакали с мест. Отец замахнулся на Ваську и закричал:
— На место! Где ремень?!
Но, видно, коса наскочила на камень. Васька в ответ зарычал ещё громче. Нам, ребятам, это понравилось: молодец Васька, не боится никого, умеет за себя постоять. Мы стали упрашивать отца, чтобы он уступил и накормил тигрёнка. Но старшие побоялись: уступишь раз — он и полезет на голову. Отец схватил Ваську и вышвырнул в окошко.
Дверь со двора была закрыта.
Васька принялся ломиться в неё, крича сердито и грозно: «баум… ба-ум… ба-а-ум…»
Он так орал и стучал, что пришлось ему уступить: его впустили.
Он влетел в комнату, вырвал из рук чашку, в которую ему разбивали сырые яйца, сунул в неё голову и с жаром всё съел. Потом ему дали молока. Он выпил, ублаготворился и разлёгся на диване. Теперь, когда он был совершенно сыт, он спокойно смотрел, как ели другие.
После этого случая мы всегда сначала кормили тигрёнка, а потом уже сами садились за стол.
Так Васька показал, что он хоть и маленький, но всё-таки не кто-нибудь, а тигр, и с его характером нужно считаться.
Прошло несколько дней. Казалось, что Васька всегда жил с нами — так все к нему привыкли.
И какой же славный характер был у него! Он никому не надоедал, не вертелся под ногами, не мешал. Целыми днями он играл в саду или хозяйственно обходил двор, конюшню и разные закоулки. А если устанет, придёт в столовую, растянется на своём диване и поспит.
Кормили Ваську очень хорошо. Все помнили, какой он злой, когда голодный. Васька в точности знал время своего кормления. Бывало, только начнут ему наливать молоко или разбивать в миску яйца, а он уж тут как тут, идёт из сада.
— Вот, Наташа, учись. Васька — и тот умеет узнавать время по часам, а ты до сих пор не можешь научиться, — дразнили мы сестрёнку.
Кроме яиц и молока на завтрак и на ужин, Васька получал тот же обед, что и все в доме.
А как занятно он ел суп с пельменями или клёцками! Повылавливает зубами из супа все клёцки и разложит их рядком около чашки; вылакает жирный суп, а потом, на закуску, ест по одной клёцке или пельменю.
Во время еды Васька свирепел. Ложился на пол, клал лапы по обе стороны миски, и тут уж не подходи! Раз сестра сунулась поправить ему что-то. Васька рявкнул в миску, подавился и тяжёлым ударом когтей рассек сестре руку.
Собаки были осторожнее нас и сами избегали подходить к тигрёнку, когда он ел. Один только Майлик, тот, что играл с ним в первое утро, отваживался соваться к нему в чашку, и тигрёнок, правда с ворчаньем, позволял ему это.
Только во время еды да вот разве когда его хлопали по животу или трогали за хвост, Васька разъярялся и кусал всех без разбору. Живот свой и хвост он считал неприкосновенными.
Однажды нас окликнул кто-то со двора. Мы все повысовывались в окошко. Васька тоже положил передние лапы на подоконник и смотрел. В суматохе Соня наступила ему на хвост. Васька сердито обернулся и цапнул её за ногу.
Показалась кровь. Соня испугалась. А Васька, только она освободила его драгоценный хвост, сейчас же перестал сердиться и даже принялся зализывать Сонину ногу, как будто извинялся.
Выдумали, что тигры звереют, как только почуют кровь. Посмотрели бы на нашего Ваську: и не подумал даже озвереть, а лизать стал, потому что сам понял, что хватать зубами чужие ноги — это не по-товарищески.
Как-то, проходя по террасе, Васька увидел веник. Он подкрался к нему, изловчился — и хвать в зубы! И, мотая и трепля веник, галопом умчался в сад. А когда вернулся, у него в зубах остались от веника всего два-три жалких прутика.
Мы посмеялись над ним, пошутили и забыли об этом. Но потом, дня через два, он разорвал ещё один веник, и ещё, и ещё… Мы убедились, что у него это вроде привычки. Он никак не мог пройти мимо веника равнодушно: увидит — и моментально в зубы и рвёт. Нам даже показалось, что у него при этом бывало какое-то особенно злое выражение, как будто он за что-то мстил веникам.
Оказалось, что это и в самом деле было так.
Когда Ваську везли из степи, отец остановился с ним передохнуть у одного своего приятеля-охотника. У этого охотника была очень строгая жена, и она колотила Ваську веником за то, что он оставлял грязные следы на её половиках. Вот здесь-то и зародилась у Васьки ненависть ко всем на свете веникам.
Отсюда же он унёс воспоминание о двух других, тоже очень интересных вещах: о юбке и сапогах. Когда сердитая хозяйка (человек в юбке) гналась за ним с веником, он, спасаясь от неё, убегал к людям другого сорта, одетым в сапоги, — к отцу и к хозяину. Тут уж его в обиду не давали, и он навсегда сохранил нежную привязанность к сапогам. А юбки, наоборот, выносил с трудом.
Мама давала Ваське еду и больше всех возилась с ним. Он заметно выделял её из всех женщин. Но юбок её он всё-таки терпеть не мог, и почти все они побывали в когтях и зубах тигрёнка.
Васька очень хорошо различал всякие запахи. Например, духи или цветы были тигрёнку неприятны. Понюхав невзначай цветочек в саду, Васька долго морщился и чихал. А запах колбасы он узнавал издалека и считал его, по-видимому, самым чудесным запахом на свете.
Едва зачуяв его, тигрёнок приходил в возбуждение и принимался кричать: «ба-ум! ба-а-ум! ба-а-а-ум!»
Другими словами, он кричал, как капризный, непослушный лакомка: «Где колбаса? Хочу колбасы! Отдавайте мою колбасу!»
Как-то вечером мы стали есть колбасу. Васька, только что накормленный, был в соседней комнате. Он ворвался в столовую и полез на стол.
— Ну нет, шалишь! — сказал отец. — Ты поел — отправляйся-ка спать. — С этими словами он повалил Ваську на диван, а колбасу убрал в шкаф, повыше.
Васька не угомонился. Он положил передние лапы на стол, убедился, что колбасы там нет, и, как ужаленный, забегал по комнате, подняв морду кверху.
Наконец он догадался, влез на открытое окошко и оттуда повёл носом. Потом подбежал к шкафу и принялся прыгать на него, сердито рявкая.
— Интересно, достанет он колбасу или так и бросит, ничего не добившись?
Васька вертелся вокруг, царапал и грыз угол шкафа. И каждый раз, когда он кидался вверх, тяжело и неуклюже, как куль с отрубями, шлёпался на пол.
Наконец, совсем рассердившись, он снова полез на стол и хотел со стола перепрыгнуть на шкаф.
Тут уж мы испугались: упадёт — так ведь здорово ушибётся.
— Так и быть, дадим ему колбасы, — решили мы все.
Отец отрезал кусок колбасы:
— Лови, Васька!
Васька, всё ещё стоя на столе, широко раскрыл свою пасть. Колбаса ловко шлёпнулась в неё и мигом проглотилась. А Васька выпучил на нас глаза: это что же за надувательство? Куда же колбаса девалась, а?
Запомнилось мне одно скучное воскресенье. С рассвета и до самой ночи лил дождь и дул холодный ветер. Днём было темно, как в сумерки.
Мы все слонялись по комнатам и мёрзли.
— Давайте затопим печку и будем печь на углях сушёную кукурузу, — предложила Соня.
Все оживились и захлопотали: кто побежал за дровами, кто стал щепать лучинки, а мы с сестрой отправились на чердак, где у нас, под самой крышей, сушилась кукуруза.
Принесли дрова и стали растапливать печку.
Печка помещалась как раз напротив дивана, а на диване, положив голову на валик, лежал Васька.
Он внимательно следил, как вспыхнула спичка, загорелись лучинки и, потрескивая, стали разгораться дрова. Васька насторожил ушки и даже сел от удивления на диване: ай-ай-ай, какая интересная штука!
Среди оживлённых разговоров мы как-то не заметили, что он сошёл с дивана.
И вдруг раздалось громкое: ффуууух!!!
Глядь, а Васька засунул голову в печку да со страху как ухнет там! От этого уханья огонь сразу вспыхнул, а Васька, бедняга, так и окаменел на месте.
Хорошо, что отец не растерялся, подскочил и оттащил его за хвост.
У Васьки обгорели усы и брови, мордочка вся была в золе. Он забился в угол дивана и оглянулся на нас, такой жалкий и растерянный, что, казалось, вот-вот заплачет.
Вот так обследовал печь!
— Ребята, ребята! — смеясь, звала Юля. — Скорее бегите сюда!
Мы выбежали на крыльцо:
— Что такое?
Юля закрыла рот рукой и грозила пальцем:
— Тише! Посмотрите-ка, посмотрите… Васька-то наш старается!..
На верхней ступеньке спускавшейся в сад лестницы сидел четырёхлетний мальчик Павлик. Он всхлипывал, что-то обиженно бормотал и пихал тигрёнка рукой. А Васька не обращал на это никакого внимания. Он примостился на задних лапах, передние положил Павлику на плечи и так, придерживая, старательно его «причёсывал». Он был очень доволен своим занятием и всё время ласково урчал и приговаривал над Павликовой головой: «гм… гм… гм…»
Он лизал от затылка на лоб. Волосы стали мокрые от слюны и торчали дыбом. А Васька, наверно, думал, что это очень красиво, и глаза у него маслились от удовольствия.
— Надо его сейчас же прогнать! Не видите, что ли, Павлик обижается.
— Ишь парикмахер какой выискался: лижет, главное, совершенно чужую голову.
— Пускай бы он лизал себе живот и лапы. А то ещё и лижет-то не по-человечески, а прямо напротив шерсти!
Соня сбегала, принесла кусок колбасы, дала Ваське понюхать и швырнула её на другой конец террасы.
Васька кинулся за колбасой, а мы захлопотали около Павлика.
Юля поливала из кружки, я тёрла ему замусленные волосы, а Наташа держала пирожок с вареньем, чтобы угостить его за все обиды. Потом дали ему пирожок, он ел и жаловался нам на Ваську:
— Я играл, а он прилез. Положил свои руки мне вот на эту спину, — он показал на свои плечи, — и начал искать у меня в голове. И сразу наплевал мне на волосы. Я его отпихивал: «Уходи, Васька, не хочу», а… а он только сме-е-ял-ся…
И Павлик опять всхлипнул, припомнив Васькино «причёсывание».
Мы все принялись его утешать, но он был такой уморительный: маленький, волосёнки во все стороны, личико обиженное и всё в варенье, что мы не могли удержаться и расхохотались.
Павлик, увидев, что мы все хохочем, перестал плакать и тоже засмеялся. А потом, спустя несколько месяцев, Павлик даже полюбил Васькины причёски. И нередко можно было видеть такую же картину, только теперь уж Павлик не плакал, а весело напевал или разговаривал с Васькой, и у обоих были довольные, сияющие физиономии.
Пробовал Васька причёсывать и нас, девочек, но из этого ничего не выходило: у нас были длинные косы, всегда туго заплетённые и завязанные ленточками. И мы решительно отказывались у него причёсываться.
Был, кроме Павлика, ещё один человек, который позволял Ваське причёсывать себя. Это был отец. Часто по утрам он и тигрёнок отправлялись в сад, играли там, боролись. Васька обхватывал лапами сапог отца и так волочился за ним.
Потом отец садился на скамейку, а Васька, стоя сзади него на задних лапах, клал ему на плечи передние лапы и лизал его волосы.
Васька ни на минуту не отставал от отца, а иногда и порядочно надоедал ему. Пойдёт отец в сад читать, Васька увидит и за кустами крадётся за ним.
Отец, усевшись на низенькой скамье, погрузится в чтение. Вдруг Васька делает громадный прыжок, выбивает у него из рук книгу и, схватив её в зубы, летит в комнаты.
Какие забавные прыжки делал он по дороге!
Но Васька не только проказничал, иногда он приносил и пользу.
Был раз такой случай.
К отцу зашёл приезжий торговец и пристал, чтобы он купил у него разные вещи: походную кровать, прибор для снимания сапог, какой-то особенный мешок для путешествий по горам и ещё что-то в этом же духе.
Отец торопился докончить срочную работу и не знал, как отделаться от надоедливого посетителя. В это время в отцовский кабинет большими прыжками ворвался Васька. Он разыскивал отца по всему дому и наконец нашёл.
Торговец, увидев Ваську, побледнел и дрожащими губами спросил:
— А это кто?
— Это кошка такая — тигр, — спокойно ответил отец.
— Тогда я… До свиданья…
Торговец моментально собрал свои сокровища и исчез. Он забыл даже второпях свои калоши, а отец, смеясь, сказал Ваське:
— Вот молодец! Ловко выручил…
Васька очень скучал, когда отцу пришлось на неделю уехать в лес.
Он ходил по всем комнатам, заходил в кухню, обнюхивал всех и всё прислушивался.
На седьмой день вечером, когда Васька был привязан на ночь к своему столику, во дворе послышались голоса: это вернулся отец. Васька бросился навстречу. Цепочка натянулась, стол сдвинулся с места, и всё это с шумом застряло в дверях. Отец быстро подбежал к Ваське.
Как он обрадовался, Васька! Обнял его сапоги, лизал и мурлыкал: «ахм-ахм-ахм…» — словно смеялся с закрытыми губами.
Не помню, кто принёс нам книгу «Хижина дяди Тома», но на несколько дней мы забросили все игры, с утра уходили в сад и там читали вслух. Читали попеременно: старшая сестра Соня и я.
А младшие сёстры и соседские ребята рассаживались полукругом на траве и слушали, раскрыв рты и затаив дыхание. Дошли мы до самого печального места — как дядя Том умирал, не дождавшись освобождения. И чтецы и слушатели заливались слезами.
К Юлиному плечу, сзади, с тяжёлым вздохом прильнула чья-то голова. Вдруг Наташа, сидевшая вся в слезах напротив Юли, ка-а-ак захохочет!
Я прямо обмерла: может, она с ума сошла от горя?
А она хохочет и машет рукой на Юлю.
Взглянули — это Васька положил голову на Юлино плечо, вздыхает и даже глаза закрыл, как будто ему тоже жалко дядю Тома. Пропало наше чтение — мы прямо по траве катались от хохота.
Больше месяца прошло с тех пор, как Васька сделался членом нашей семьи. Он заметно вырос, набрался силы и уверенности. Движения его были ещё по-детски неуклюжи, но иногда, особенно когда Васька подкрадывался, становились вдруг очень быстрыми и ловкими.
Шерсть на Ваське блестела и лоснилась, как бархат. Она была золотисто-красного цвета с яркими чёрными полосами. Полосы доходили до живота. Живот был светло-серый, без полос.
Васька стал гладким и откормленным. Приятно было на него смотреть.
Целый день он умывался и лизал свои лапы и живот, отряхивался и прихорашивался. В такие моменты он очень напоминал кошку.
В комнатах он никогда не пачкал. Впрочем, случилось один раз, но это мы сами были виноваты: забыли вывести его вовремя. Когда мы спохватились наконец, Васька, недовольный, сконфуженный, морщился и громко фыркал.
Его отвязали, и он пулей вылетел в сад.
В этот день он купался с особенным старанием.
А купался он не просто, а с фасоном.
В саду вырыли круглую яму около метра глубиной и шириной. Маленький ручеёк почти до краёв наполнял её водой.
Приходила мама с мылом и щёткой. Отец приносил ведро или кружку, и появлялся Васька с целой свитой ребят.
Он очень любил купаться и этим совсем не походил на кошек.
Ваську поливали из кружки и намыливали зелёным мылом. Потом он лез в яму, становился в ней на задние лапы, передние протягивал отцу, и начиналось мытьё. Его тёрли щёткой и руками, обливали, полоскали, а он, торжествуя, стоял в яме и сопел от удовольствия. Когда мытьё кончалось, он выбирался на траву, отряхивался, катался и прыгал на солнышке.
Много было с ним возни и хлопот, но зато какой он вырастал красивый!
Васька нисколько не боялся людей. Напротив, он всячески старался привлечь их внимание.
Если случалось, что дома все были заняты и к тигрёнку никто ни с чем не обращался, не гладил его, не тормошил и не заговаривал с ним, Васька как будто обижался.
Иногда мы нарочно испытывали его терпение.
Возьмём, бывало, усядемся на полу в кружок и разговариваем.
Васька подходил и прислушивался. Он ожидал, что мы, как всегда, скажем ему: «А-а, Васюк пришёл!» — и погладим его.
А мы делаем вид, что совсем его не замечаем. Он послушает немножечко и начинает трогать лапой какой-нибудь кончик завязки у фартука или ленту в косе.
А мы ещё пуще разговариваем, но только между собой, как будто его совсем не существует на свете.
Тогда он садился тоже, пялил на нас свои широкие глаза, слушал и в удобных местах вставлял своё «угу».
Это означало, что ему уже невтерпёж становится одному.
Мы хохотали и говорили, нарочно не глядя на него:
— Ишь, как он набивается! Только смотрите не называйте его по имени, а то он сразу догадается, что мы про него говорим, и не будет больше скучать.
Так мы изводили его часами.
Он старался вмешаться в разговор, заигрывал всячески, а потом, когда уже ничего не помогало, вдруг громко зевал, широко раскрывая огромную пасть.
А пасть у него была замечательная — красная, с какой-то бахромой, и зубы, как нарочно, белые, острые и большие.
Мы забывали свой уговор, заглядывали к нему в пасть и восхищались зубами.
Васька сейчас же влезал в наш круг. Мы пробовали руками раскрыть ему рот, а он отворачивал морду и радовался: всё-таки заставил нас обратить на себя внимание.
Со всего города, из окрестных станиц и даже с гор приезжали люди поглядеть на нашего тигрёнка. Они звонили у ворот; мы бежали и откладывали палку-засов.
— У вас, говорят, ручной тигр имеется? Можно посмотреть? Мы заплатим, если нужно, за посмотрение.
Нам сначала очень хотелось, чтобы они давали нам копейки. Один раз мы набрали так два рубля — по пятаку брали с человека. Но отец сердился и не позволял нам брать деньги, а только требовал, чтобы смотрели издалека, не гладили Ваську и без разрешения ничего ему не давали.
Нам нравилось, что взрослые люди спрашивали у нас позволения.
— А сколько вас, много?.. Ну ладно, станьте вот здесь, у ворот. Мы его сейчас позовём. Только смотрите не гладьте и не давайте ему ничего, когда он придёт.
— Хорошо, мы всё будем делать, как вы велите.
Они становились, как мы показывали, и всем было очень интересно.
Потом мы шли в сад, звали Ваську, и он важно выходил к посетителям.
В первый миг они всегда шарахались в сторону, а он удивлялся и оглядывался на нас.
Мы успокаивали их:
— Ну, что же тут страшного? Он ведь совсем ручной.
— Он даже не понимает, кого вы испугались. Видите, он какой?
Мы клали ему в пасть руки, гладили по голове, за ушами и под подбородком. Поднимали его тяжёлую лапу и показывали зрителям ладонь.
— Глядите, — говорили мы, — все когти поджаты, и ничего такого нет, чтобы бояться.
Они смотрели на Ваську и не могли насмотреться. Потом он так им начинал нравиться, что они непременно хотели его погладить.
— Нет, — говорили мы, — погладить его никак нельзя, потому что нам за это достанется.
— Ну, не достанется.
— Нет, обязательно достанется.
Но они всё приставали до тех пор, пока мы не прибавляли нарочно:
— И потом, кто его знает, ведь он же всё-таки тигр… А вдруг вцепится, тогда что мы будем делать?
После этого они сразу переставали просить.
Один раз Васька гулял по саду и увидел в заборе дырку. Он просунулся между досками. Видит — улица, бегают собаки, извозчики ездят туда-сюда, в стороне ребята играют в лапту, а под забором на травке несколько человек играют в карты.
Васька оглядел всё это, втянул голову назад, фыркнул от волнения и сказал: «уф!»
Потом просунулся снова.
Но я уже говорила, что он не мог выносить, чтобы люди его не замечали. Поэтому он смотрел, смотрел, да и вылез весь наружу.
Те, которые в карты играли, оглянулись и говорят:
— Вот так явление!
А Васька им в ответ:
— Угу.
Они встали тогда с земли. Один говорит другому:
— Пойдём, брат Васька. А то как бы штаны наши не пострадали. Это, видно, лесничего тигра. Вишь, она вредная какая, полосатая.
Он сказал: «Пойдём, Васька», — тигрёнок и подумал, что это к нему, и пошёл.
Они испугались и отбежали, а женщина одна даже завизжала от страха. Тигрёнок растерялся. Сел прямо посередине улицы в пыль и давай чесать за ухом.
В это время отец подошёл к забору. Выглянул — Васька сидит в пыли и задумчиво почёсывает за ухом, а соседи сгрудились поодаль, рассматривают его и смеются.
Отец перескочил через забор и хотел увести сейчас же тигрёнка. Тут соседи осмелели и стали просить:
— Подожди малость! Не уводи так скоро. Ишь он какой интересный. Он кто же — кошка или иначе как определяют?
Отец рассказал им про тигров, потом заставил Ваську бороться и кувыркаться. Шлёпал в шутку его по щекам, а Васька отмахивался лапой и тоже норовил задеть отца.
Когда отец двинулся с тигрёнком домой вдоль забора, вся толпа провожала их и кричала вслед:
— Ай да Васька! Вот спасибо, что пришёл к нам!
У нас было много кур, и Васька поглядывал на них с большим интересом.
Как-то он вышел погулять. Кругом во дворе стояли лужи: только что прошёл дождь. Васька пробирался осторожно, обходя лужи и отряхивая лапы, как кот.
Вдруг он заменил на солнышке наседку с малюсенькими, как ватные шарики, цыплятами. Васька прижал уши к затылку (так он делал всегда, когда подкрадывался) и припал к земле, чтобы прыгнуть к цыплятам.
Наседка почуяла опасность, заволновалась, собрала детей, распушила как можно страшнее свои перья и, вся дрожа от ужаса перед Васькой, бешено кинулась на него. Она хлопала крыльями, наскакивала на него и старалась выклевать ему глаза.
Васька перепугался, замотал головой и пустился бежать. Он уже не разбирал дороги, шлёпал прямо по лужам, только брызги летели во все стороны. А наседка — за ним; всё злее и злее налетала, клевала сзади. И только тогда, когда Васька дикими прыжками влетел на крыльцо, она повернулась, захлопала крыльями и гордо направилась к цыплятам.
Второе столкновение Васьки с курами произошло накануне праздника. В этот день все ходили голодные и озабоченные. С самого утра занимались уборкой и стряпнёй и в суматохе забыли покормить животных.
Голодны были собаки, голоден был и Васька.
Вдруг прибегает на кухню Соня:
— Мама, что собаки наделали!
— Что такое?
Оказалось, что собаки уже закусили: съели окорок, приготовленный для праздника. Они забрались в ледник и вытащили его.
Тут вспомнили, что Васька тоже ещё не накормлен, и решили поскорее накормить его. Но было уже поздно. Васька, голодный и злой, сидел во дворе на солнышке и хмурился на роющихся кур. Трогать их он не решался: ещё не забыл, как клевала его наседка.
В это время мимо него проковылял на отмороженных ногах несчастный инвалид-петух.
Васька сделал прыжок — и петух забился в его стиснутых зубах. Мы увидели это с крыльца и хором закричали.
Из дома выбежал отец. Он схватил первую попавшуюся хворостину, стегнул Ваську и сердито крикнул:
— Брось сейчас же! Я вот тебе…
Васька свирепо зарычал, не выпуская из зубов своей жертвы. Глаза у него загорелись, он стал страшным. Отец понял, что если отступить перед ним в этот раз, то после с ним уж не сладить. Он стегнул ещё и ещё.
Васька дико рычал и прыгал, но петуха всё-таки не выпускал.
Тогда отец схватил его за задние лапы, приподнял вместе с петухом в зубах и трахнул головой о плетень.
Правда, это было очень жестоко, но зато бунтовщик сразу смирился. Выпустил из зубов задушенного петуха и сидел, оглушённый и как-то сразу обмякший.
Мама поскорее накормила его, и он, обиженный, убрался в сад.
Долго не мог он простить этого отцу, избегал подходить к нему, не ласкался и вообще с ним «не разговаривал».
А кур он больше никогда не трогал. Правда, случалось, что он неожиданно набрасывался на них из-за кустов. Но это была только игра: зубы его в этом не участвовали. Игра кончалась тем, что куры с отчаянным кудахтаньем разлетались, а Васька, напуганный собственной проделкой, удирал в другую сторону.
Мы, все четыре сестры, так ловко ухитрились родиться, что наши дни рождения приходились один за другим.
В дни рождения ведь всё-таки полагается испечь пирог, позвать гостей — и чтобы целый вечер был шум. Ну, и подарок какой-нибудь тоже надо. Один раз — это ещё ничего. А вот когда нужно четыре раза подряд печь пирог и четыре вечера устраивать шум, тогда это уж чересчур. Мама от этого уставала и сердилась. Вот мы и решили: соединить все наши дни рождения в один день, но зато уж чтобы в этот день и пирог, и гости, и шум — всё было как следует.
Накануне этого торжественного дня мы деятельно помогали маме. Подметали двор и сад, мыли полы, взяли на себя самую трудную часть стряпни: заботу о нашем сладком пироге. Мы так сильно беспокоились о нём, что всё время пробовали начинку. Когда её осталось почти половина, мама сказала:
— Ну хорошо! Будет уже помогать! Теперь я сама как-нибудь справлюсь.
И она велела нам ложиться спать.
А ещё позднее, когда мы крепко заснули, она тихо зашла в комнату и каждому под подушку положила подарок. Потом и она заснула.
Утром мы все, как только открыли глаза, сейчас же полезли под подушки. И каждая из нас нашла именно тот подарок, какой ей больше всего хотелось. Соня — толстую книгу про всех животных, Брэма, я — кукольный театр, Юля — ящик с красками для рисования, а Наташа — игру «Скотный двор».
Мы разложили подарки, стали рассматривать их и восхищаться. Мама тоже радовалась вместе с нами. Она пришла на минутку, чтобы позвать нас завтракать, да так и осталась у нас. И про завтрак мы все забыли.
А в это время к нам пришёл гость. Двери с террасы у нас были открыты, и никто не слыхал, как он вошёл в столовую. Это был сослуживец отца. Он подошёл к накрытому столу, полюбовался на наш пирог и прочёл румяную надпись из теста: «С днём рождения, детки».
«Ах, вон как! У них сегодня праздник», — сказал он сам себе и стал расхаживать по комнате, напевая песенку.
Гость был маленький, щупленький человечек, ростом не больше десятилетнего мальчика. Но, несмотря на это, держал он себя так важно, даже величественно, что к нему нельзя было подступиться.
С детьми он здоровался только двумя пальцами и при этом страшно задирал кверху очки. Мы его не любили и тихонько подсмеивались над ним.
Разгуливая по комнате, он достал из кармана носовой платок и разгладил им свои усы. От платка распространился запах крепких духов.
Вдруг кто-то, совсем близко от него, с отвращением сказал:
— Ф-фу!
Он оглянулся: «Батюшки, кто это?!»
А это был Васька. Он потянул носом воздух и чихнул от крепкого запаха духов. Потом сел на диване, где он только что спал врастяжку, и понюхал ещё раз — фу, как нехорошо! У него даже морда скривилась. Язык сам собой высунулся, а вокруг носа сделались морщинки.
Бедный гость совсем растерялся. Как хотите, а это же не шутка: сидит в двух шагах не птичка какая-нибудь, даже не собака, а настоящий тигр и строит тебе этакие вот гримасы!
Васька снова чихнул и замотал головой. Дикому зверю никогда не понять, зачем это люди так резко пахнут. Звери, наоборот, стараются пахнуть как можно меньше, чтобы их не учуяли враги.
Гость лихорадочно придумывал, как бы ему удрать подобру-поздорову. Он с тоской поглядывал на дверь, но не решался даже пальцем шевельнуть.
А Васька тем временем начал догадываться: должно быть, этот «мальчик» хочет с ним поиграть. Он слез с дивана, подошёл и гмыкнул, как будто спросил: «Ну хорошо. А как будем играть-то?»
Гость вздрогнул. Васька попятился. Его тоже начало разбирать сомнение: человечек вёл себя очень странно, резко пахнул, вздрагивал, не заговаривал с Васькой, как все остальные. Загадочное поведение!..
Тигрёнок забрал назад одну лапу, другую. Попятился к двери и стал на пороге.
— Ко-о-ше-чка, ми-лая! — заикаясь, пролепетал гость. — Уйди, милая, уйди!
И он махнул носовым платком. Васька снова яростно чихнул. Гость шарахнулся за стол.
Ну, наконец-то «мальчик» перестал топорщиться и заиграл. Тигрёнок весело запрыгал вслед за ним. Гость взвился на диван, Васька — за ним. Гость прыгнул с дивана на стол и присел над нашим пирогом, среди посуды. На минуту Васька потерял его из виду.
Вот тебе раз! Так славно было разыгрались, и вдруг этот «мальчик» исчез куда-то.
Васька поднялся на задние лапы, положил передние на край стола и заглянул. Ах, вот он где! Сидит на столе и ждёт Ваську.
Тут тигрёнок от радости принялся выделывать такие замысловатые прыжки, что у бедняги гостя зашевелились волосы на голове. Он потерял всю свою важность и отчаянно, как утопающий, завопил:
— Ка-ра-уул! Помогите!.. Спасите!
Время от времени Васька останавливался, опять поднимался и заглядывал на стол. Гость, видя так близко от своих ляжек его морду и горящие оживлением весёлые глаза, только отмахивался душистым платочком и в полном изнеможении стонал:
— Спаси-ите!.. Помоги-ите!..
Мы услыхали эти стоны и, страшно перепуганные, кинулись на помощь. Гурьбой влетели в столовую — и остолбенели: на праздничном столе, прямо над нашим сладким пирогом, скорчился зелёный от страха гость. Он в ужасе таращил глаза на пол, как будто оттуда на него надвигался разъярившийся мамонт. А там всего-навсего сидел Васька и топорщил от смеха усы.
Мы дружно захохотали. Гость тоже скривил улыбку, но всё ещё не слезал со стола и беспокойно озирался на Ваську.
Тут вошёл отец. Он снял гостя на пол, оправил на нём костюм и стал извиняться за Васькину выходку. Он даже сердито пихнул тигрёнка ногой, а нам приказал очень строго:
— Перестаньте сейчас же! Смеяться здесь нечего! Уберите немедленно эту гадину!
Мы взяли «эту гадину» за передние лапы, уволокли в сад и там уже насмеялись вволю.
Всю весну, лето и осень мы ходили и пестовали Ваську. А когда листья на деревьях облетели и сад опустел, заметили, что Васька стал большим.
Детские свои забавы он постепенно менял на другие: слежку, борьбу, прыжки.
Замашки настоящего тигра у него проглядывали и раньше: он очень любил подкрадываться, подкарауливать разных животных и птицу. С возрастом эти замашки становились всё резче и заметнее.
После неудачного нападения на наседку, и в особенности после того, как ему влетело за петуха, Васька никогда больше не трогал кур. Но, должно быть, ощущение перьев и петушиного тела во рту ему очень понравилось.
И вот он придумал новую забаву.
Когда в нашей детской комнате никого не было, он тихонько пробирался туда и играл.
Особенно любил он стащить с кровати подушку, выкусить у неё угол и потом ударить по ней лапой: перья облаком взлетали во все стороны, и тогда можно было с силой зажать подушку в зубах и рычать.
Получалось полное впечатление охоты на дикую птицу.
Мы сбегались на рыканье и заставали Ваську на месте преступления: подушка на полу, Васька на ней, морда у него зверская и вся в пуху.
— Зубы у тебя чешутся, что ли? — ворчали мы, то и дело спасая от него разные вещи. — Ведь ни за что не пройдёт спокойно: всё ему нужно таскать в зубах и рвать!
И мы придумали выход.
Подарили Ваське игрушку — истоптанный маленький валенок. Мы возили валенок на верёвке, а тигрёнок ловил его, как кошка мышку. Поиграв, мы оставляли валенок в Васькиных зубах, и он служил затычкой Васькиной пасти. С ним в зубах Васька не портил других вещей.
С валенком в зубах он важно отправлялся на конюшню. Васька очень любил следить за лошадью, и днём, когда лошадь выпускали в специально огороженную часть сада, он, затаившись где-нибудь в кустах, часами просиживал около неё.
Любимая наша с ним игра была такая.
Мы размещали своих кукол в игрушечных тележках и ехали, пробираясь в зарослях сирени, к небольшой полянке. Там «жили» эти куклы.
Соня, Юля и Наташа по узким тропинкам везли тележки. Я ехала сбоку верхом на палочке. Это был мой любимый конь, у него было отличное имя — «Вихрь».
По дороге велись разговоры о том, что в «этой местности на мирных жителей часто нападают дикие звери».
А в кустах уже сверкали Васькины глазищи. Он, как кошка, следил за тележками, готовый прыгнуть в любую минуту.
Вот уж скоро полянка. Оставалось проехать самую заросшую, опасную тропинку. Поворот. Тележки скрываются за углом: одна… другая…
Тут на караван бурей обрушивался тигр. Под отчаянные крики «мирных жителей» он хватал куклу и уносился с ней в чащу сада. Тогда и сад был уже не сад, а «джунгли».
Мы лихорадочно вооружались «карабинами» (карабинами были палки с картофелинами на концах) и отправлялись спасать утащенную «женщину». Частенько случалось, что после сражения, когда Васька отступал под градом пуль — картофелин, бедная «женщина» оставалась с растерзанным животом и без парика. Парик вместе со шляпкой застревал в Васькиных зубах.
Появилась у Васьки и ещё забава: он пристрастился прыгать на деревья.
Напротив дома росло старое, развесистое дерево. На него повесили обрывок войлока и любовались, как ловко Васька его доставал. Войлок висел довольно высоко, раза в полтора выше человеческого роста. Васька припадал к земле, прицеливался и кидался вверх.
Миг — и Васька, вцепившись зубами и лапами в войлок, качался высоко над землёй.
Какая упругость и сила были в его гибком, кошачьем теле, когда он раскачивался так на ветках!
Накачавшись, он прыгал на землю; бесшумно ступая, обходил несколько раз вокруг дерева и снова прицеливался к войлоку. Глаза у него разгорались, как угли, усы топорщились, а хвост беспрестанно хлестал по гладким бокам.
Диван, если Васька растягивался во всю свою длину, теперь становился для него уже мал.
Мы по-прежнему беззаботно играли со своим другом, но старшим всё чаще и чаще приходило в голову, что жизнь Васьки скоро должна измениться.
Однажды, сидя в гостях у начальника города, одна трусливая, слабонервная женщина разахалась и разохалась насчёт нашего Васьки:
— Ах, как это можно, помилуйте! В городе, совершенно на свободе, ходит тигр. Ах, ах, мне страшно подумать! Ведь от него всего можно ожидать… Зачем же так рисковать? Зачем наживать себе лишние неприятности?
После таких разговоров начальник города вызвал отца и объявил, что ему не разрешается больше держать Ваську на свободе и он должен посадить его в клетку; а пока клетка не будет готова, привязать на цепь.
Пришлось исполнить всё, что было приказано.
Первое время Васька никак не мог примириться с неволей и оскорблённо кричал басом: «а-ам, ахм! баум, баум…»
Морда у него была такая расстроенная, что хотя и было условлено, что его отпускать не будут, но мы потихоньку от взрослых (а взрослые потихоньку от нас) отвязывали его.
И тогда Васька по-прежнему бегал по саду, лежал на диване, прыгал на дерево за своим войлоком и вообще старался всячески поразмять застоявшиеся мускулы.
Проходили дни за днями, а клетки всё не было.
Заказать большую, надёжную клетку у нас не хватало денег, а заказывать плохую и тесную не имело смысла: всё равно мы стали бы выпускать из неё Ваську.
Отец ждал новых неприятностей от начальника города и ходил хмурый и сердитый. А тут, как нарочно, выискался один торговец: «Продайте да продайте… Я буду его хорошо кормить, выстрою огромную, просторную клетку. Ему будет у меня прекрасно».
Отец и мать долго крепились: очень уж им не хотелось расставаться с Васькой. Но тигр стоил очень дорого, потом недовольство соседей, которые начали придираться к Ваське, и ещё многое другое заставило их поколебаться.
И, как назло, Васька опять наскандалил.
Как-то часов в двенадцать дня отец услышал страшный вопль. Он выскочил во двор. У крыльца металась мама. Она кричала и показывала рукой на плетень.
Там возле плетня лежал маленький дикий козёл. Он кричал буквально как ребёнок, а на нём, подпустив ему под рёбра когти и закатив от умиления глаза, сидел негодный Васька.
Когда к нему подбежали, он соскочил с козлика и бросился удирать. Хорошо, что после памятной порки за петуха Васька боялся отца. Но всё-таки, убегая, он вцепился ему в сапог.
После этого нам строго-настрого запретили спускать Ваську с цепи: он целыми днями сидел теперь на привязи.
Прошло дней десять, и Васька опять учинил разбой. На этот раз он как-то сам отвязался и схватил жеребёнка. Правда, и в этом случае его сейчас же поймали, но Васька цапнул кого-то, и уже по-настоящему. Тогда старшие окончательно решили, что придётся с ним расстаться.
Они позвали торговца (поставщика зоологических садов) и, взяв с него слово, что он будет хорошо обращаться с Васькой и не отвезёт его в зверинец, согласились Ваську продать.
Мы сначала не поверили, что Ваську скоро увезут. А потом подняли такой крик, что родители прогнали нас в сад. Туда же, в сад, явился к нам и хитрый торговец. Он стал угощать нас конфетами, приглашал нас в свой зоологический сад и говорил, что очень-очень любит зверей.
Кроме того, он просил, чтобы мы рассказали ему про все Васькины привычки и научили его, как надо обращаться с тигрёнком.
Мы сначала не желали даже разговаривать с ним, но потом понемногу стали его учить, как кормить, как купать и как ухаживать за Васькой. И всё время мы подозрительно к нему приглядывались и брали с него бесконечное число клятв, что он будет его любить.
— Да, впрочем, очень ему нужна ваша любовь, — невежливо прибавляли мы тут же и уходили, чтобы погоревать на просторе.
И вот наступил грустный день.
Осенним вечером, когда над голым садом без конца кричали стаи галок, во двор со скрипом въехала телега. На телеге была железная клетка.
Отец подшучивал над матерью, но у него у самого дрожали руки, когда он отвязывал Ваську. Васька, испуганно прижимаясь к его ногам, взошёл с ним в клетку по доске. А когда отец вышел и Васька остался один, он закричал и стал биться. Потом, жалобно мурлыча, просунул лапы между железными прутьями и протянул их к отцу. Все домашние стояли вокруг молча, потрясённые Васькиным отчаянием.
Весть о том, что Ваську увозят, дошла до нас. Побросав все игрушки, мы вылетели во двор, остановили тронувшуюся было телегу и прижались лицами к прутьям клетки.
— Васька! Милый Васька! — твердили мы дрожащими голосами, а Васька из клетки мурлыкал и повторял: «уффф, уфф…»
У матери на глазах были слёзы. А мы, как только телега двинулась, схватили свои пальтишки и гурьбой, держась за прутья клетки, отправились провожать Ваську на его новую квартиру. Там мы возились до позднего вечера, помогая устраивать огромную новую Васькину клетку. Потом устроили ему мягкую постель из сена, погладили его на прощанье и сказали:
— Завтра, чуть свет, мы опять придём к тебе, Васька.
Мы уходили, а в клетке, в первый раз оставаясь без нас, тоскливо ревел и метался тигрёнок.
На другой день с утра мы помчались к Ваське. Разбудили сторожа, ночевавшего в саду около зверей, и потребовали, чтобы нас впустили.
— Мы пришли не для того, чтобы смотреть ваших зверей, — твердили мы не пропускавшему нас сторожу, — а просто мы пришли к Ваське. Понимаете? К нашему тигру… Он наш, мы имеем право.
Мы насильно пролезли мимо ошалевшего перед таким напором сторожа и так прытко пустились по дорожке, что он только махнул рукой.
Нам казалось, что за одну эту ночь без нас с Васькой непременно что-нибудь случилось. Вот в конце аллеи показалась клетка. Живой и здоровый тигрёнок пристально глядел на дорожку. Он услыхал нас, когда мы спорили у ворот, и вскочил, чтобы бежать навстречу.
Соня подбежала к нему самая первая и крикнула:
— Как поживаешь, Васютка?
Васька сморщил в улыбку усы и ответил: «уфф, уфф…»
Он протянул сквозь решётку лапу, и мы все по очереди её потрясли.
Пол в Васькиной клетке мы вымыли и насухо вытерли тряпками, солому аккуратно перетрясли, а насчёт миски сказали, чтобы мыли её получше и несколько раз в день, а то Васька брезгливый, он не станет лакать из нечистой посуды. И всё, что ему потом приносили поесть, мы очень внимательно проверяли. Дома мы подробно рассказали о том, как живётся тигрёнку, и в первый же свободный день отец с матерью пошли к нему вместе с нами.
То-то радость была у Васьки! Отец сейчас же открыл клетку и отпустил Ваську бегать по огромному саду. Васька прыгал, валялся на траве, а главное, тёрся об ноги отца, лизал ему руки, обнимал его и буквально не сводил с него глаз. И всё время у него под усами как будто шевелилась улыбка, так похоже на короткий смешок было его мурлыканье: «мм-хмм, ахм-ммхм…»
Но вот все наигрались и нагостились, и наступило время уходить. Васька спокойно и доверчиво пошёл за отцом в клетку. Отец быстро выскользнул из неё, и дверь захлопнулась. Васька примирился даже и с этим. Он продолжал мурлыкать, несмотря на то что его запирали в клетку, и тёрся головой о её прутья. Но всё это только до тех пор, пока мы не начали двигаться к выходу и не исчезли в калитке.
Тогда Васька бешено кинулся на стенки клетки и отчаянно закричал нам вслед, и это было очень грустно слышать…
Новый Васькин хозяин старался по мере сил окружить тигра таким же вниманием, каким он был окружён у нас, но он не любил животных, а смотрел на них только как на доходное дело. Притом же он очень боялся Васьки.
На счастье, казах Исмаил, который жил прежде у нас и всегда любил и баловал Ваську, согласился перейти к Васькиному новому хозяину специально для того, чтобы ухаживать за тигрёнком. Это очень облегчило Васькину участь.
С Исмаилом Васька стал меньше скучать по дому, и вообще жилось ему хорошо. Кормили его прямо как на убой.
Понемногу все привыкли, что Васька живёт не дома, а за несколько кварталов. Начались занятия в школе, и мы приходили к Ваське теперь уже только по воскресеньям. Каждый раз, когда мы видели Ваську, нам бросалось в глаза, как быстро он вырастал. В течение какого-нибудь месяца он стал огромным, могучим тигром.
Однажды к отцу прибежал хозяин Васьки. Он был страшно расстроен и долго не мог рассказать, что случилось. Из его отрывочных восклицаний отец понял, что с Васькой что-то неладно. Он схватил шапку и бросился на помощь.
Прибежав к Васькиной клетке, он увидел, что она открыта настежь и никого в ней нет. В это время к нему подошёл Исмаил и сказал, что Васька лежит в комнате.
Хозяин Васьки, услыхав это, помчался за ветеринаром, а отец пошёл к Ваське.
Он лежал, растянувшись на полу во весь свой огромный рост, и тяжело дышал. Он был без ошейника. Отец нагнулся над ним, погладил его и позвал. Но Васька не ответил: он был в агонии. Помочь ему нельзя было уже ничем.
Прошло несколько минут. Васька глубоко вздохнул, и его не стало.
Отец, очень расстроенный, стал расспрашивать Исмаила, как всё это случилось:
— Не ударил ли его кто-нибудь? Или, может, отравили какой-нибудь гадостью?
— Нет-нет, это ведь с ним давно уже началось. Последнее время он стал какой-то скучный, сонный. Не хотел бегать, не хотел играть, а всё старался поскорее лечь. Сегодня утром, когда я зашёл к нему в клетку, он даже не поднял головы. Я старался расшевелить его, но услыхал, что он очень тяжело дышит. Тогда я послал хозяина за вами, а сам перенёс его кое-как сюда, в комнату. Думал — может, здесь он хоть немножко оживится. Эх, бедняга Васюн!
Отец вместе с ветеринаром сделали вскрытие, и оказалось, что Васька умер… от ожирения сердца.
Его погубило то, что его стали кормить мясом и давали всё больше жирное мясо и воду, а прежде Васька ел суп, молоко, яйца, и мяса ему давали гораздо меньше. И ещё оказалось, что ему очень мало давали бегать.
Вернувшись домой, отец не знал, как сказать нам о Васькиной смерти.
Горько оплакивали мы нашего любимца и дали обещание, что никогда мы о нём не забудем и расскажем про него всем детям.
Это обещание слышала опустевшая Васькина клетка да подвернувшийся Васькин хозяин. Впрочем, он услышал и ещё кое-что о «некоторых личностях, которые ничего не смыслят в обращении со зверями, а тоже туда же лезут».
